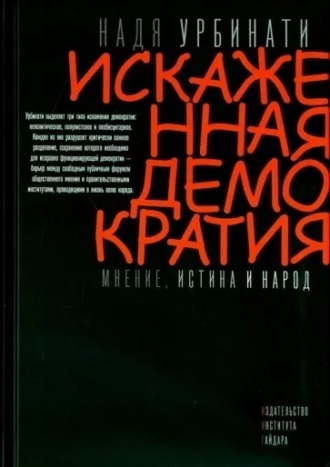
Надя Урбинати
Искаженная демократия. Мнение, истина и народ
То же самое можно сказать о вопросах, связанных с решениями о войне и мире, – это излюбленный пример Аристотеля, который пояснял им невозможность оценивать политическое обсуждение, применяя критерии философского обсуждения, хотя это и не означает, что политика является неразумным искусством. «Рассмотрение некоторых проблем полезно для выбора или для избегания, например желательно ли удовольствие или нет. Некоторые же проблемы полезны для одного только познания, например вечен ли мир или нет»; следовательно, вопрос «Надо ли идти на войну» – первого рода, требующего политического обсуждения, а не второго, требующего эпистемической истины[90]. В проблемах, касающихся «выбора» или «избегания», под которыми Аристотель имел в виду вопросы пользы и справедливости, вопросы правдоподобия не уравниваются с вопросами истины, и по этой причине мы взвешиваем все «за» и «против», выдвигаем аргументы касательно осторожности или удобства и в конечном счете нуждаемся в процедурах принятия решения, которые позволяют высказывать несогласие. Работа «ekklesia» и «dikastes» – это, следовательно, работа суждения. Однако они применяют разные виды суждения, что мы будем объяснять в следующей главе.
Конечно, дискуссия и несогласие – внутренние качества полиса, правление которого основано на мнениях. Оно требует атмосферы свободы и публичного представления идей и одновременно поддерживает ее. В «Никомаховой этике» Аристотель говорит, что, если бы в сообществе присутствовали герои, следовало бы позволить им править[91]. Но он тут же добавляет, что политическая ситуация, в которой живут люди, говорит о том, что в ней нет сверхчеловеков; следовательно полис должен строиться как наилучший из всех возможных полисов, учитывая то, что каждый человек может быть добродетельным, но многие на самом деле не добродетельны и при этом никто не богоподобен. Поскольку же полис состоит из обычных людей, отличных друг от друга, они должны принимать решения вместе; в силу своего несовершенства они нуждаются в сотрудничестве и общем включении в политическую жизнь. Следовательно, все они должны быть членами собрания и суда и должны искать то, что выгодно или справедливо для всех. Обсуждение – это стратегия коллективного принятия решений, которая требует признания неопределенности, с которой гражданам приходится иметь дело, и, с другой стороны, реальности их совместного существования; из нее вытекает то, что участники заранее знают, что решения не могут всегда быть единогласными и что такого единогласия вообще нельзя ожидать[92].
Из «Риторики» Аристотеля можно понять то, что политическое обсуждение имеет смысл именно потому, что вещи, о которых выносят решение, не являются предметом научного знания или философского обсуждения, и все решения (в том числе о конституционных законах) открыты для пересмотра[93]. Открытое испытание мнений и несогласие – это внутренние качества политической жизни в полисе. И по тому, что открыто для риторики или мнений, нам предлагается мерить политическую свободу и, следовательно, проводить различия между формами правления. Соответственно, демократия – это правление, наиболее благоприятное для публичного обсуждения[94].
Аристотель писал, что «в некоторых государствах, и преимущественно тех, что отличаются хорошим государственным устройством, эти риторы не могли бы сказать ни слова», а с другой стороны, есть государства, в которых запрещается говорить «о вещах, не относящихся к делу» в суде, где речь должна следовать процедурам, устроенным так, чтобы судьи устанавливали истину в рассматриваемых делах[95]. Здесь у нас две совершенно различные ситуации, в которых мнение неуместно. Это различие поможет нам оценить и лучше понять связь между доксой, политикой и свободой, а также то, почему свободное правление основано на мнении.
Полис с «хорошим государственным устройством», в котором «риторы не могли бы сказать ни слова», похож на просвещенный деспотизм или же эпистократию[96]. В государстве такого рода осуществляется радикальное отрицание политики (и свободы), поскольку для публичной речи не остается пространства, ведь все решения берет на себя правитель. Напротив, полис, в котором мнения исключаются из компетенции суда, похож на конституционное правление, в котором место политического мнения должно быть очерчено, и это ограничение выражается в защите свободы. В самом деле, в этом полисе мнения не должны проникать в суд потому, что они должны свободно циркулировать в публичной сфере. Следовательно, должны быть приняты законы, ограничивающие мнения «о вещах, не относящихся к делу» правосудия.
Мы называем конституционной демократией общество, в котором судья должен отвлекаться от своей религиозной веры или своих идеологических мнений, когда он выносит правомочное суждение или судебный вердикт. Но мы, соответственно, не имеем в виду, что это требование должно распространяться на граждан и на их представителей в собрании, хотя в их случае нужны определенные оговорки. Ключевой момент, выдвигаемый Аристотелем, состоит, следовательно, в наличии внутренней связи между правлением посредством мнения и свободой. Ограничение и сдерживание мнений (отделение правосудия от политики, а суда – от собрания) имеет смысл благодаря этой связи.
Мнения требуют поиска согласия, но причина их авторитетности – не один лишь разум и, главное, не солипсистский разум, а тот, что распространяется в обществе в форме согласия людей с тем, что они считают разумным соответственно обстоятельствам своей социальной и моральной жизни, своей этической культуре и идее счастья. Закон мнения и репутации, который Джон Локк обсуждал в «Опыте о человеческом разумении», считая его производным от способности суждения (дарованной Богом, чтобы было, чем «руководствоваться при отсутствии ясного и достоверного знания»), так же как и общее мнение или то, что Иммануил Кант называл «sensus communis», – это общая платформа для общества, опирающегося на базовые взгляды людей, руководящих ими в рассуждениях и выдвижении разумных доводов при принятии решений и оценке тех, кто был выбран для принятия решений[97]. Объединиться в политическое общество и располагать единой силой (законом) – не значит лишать индивидов их способности «быть хорошего или плохого мнения о действиях других людей», напротив, это значит наделять их способностью к моральным суждениям[98].
Мнения – это интерпретации отдельных фактов и событий, которые вытекают из применения идей или ценностей, уже разделяемых большинством людей в качестве их повседневных убеждений. Если при этом делается апелляция к основным принципам, ее цель, однако, не является эпистемической, а состоит, скорее, в преодолении несогласия и принятии решений, которые легитимны или приемлемы для тех, кто будет их исполнять. Доводы о политической легитимности выдвигаются для того, чтобы гарантировать принятие таких решений свободными гражданами и их повиновение[99]. Такие доводы во многом опираются на неявное общее мнение, с которым люди согласны настолько, что считают его принципиальной посылкой, поддерживающей умозаключения, признаваемые ими «истинными», «верными» или «здравыми». Позиция Аристотеля, которая нашла отклик в работах столь разных авторов, как Эдмунд Берк и Джон Ролз, указывает на такое понятие публичного или политического разума, которое поддерживает доводы в пользу политической легитимности, но не экспертного знания.
Здесь мы можем выделить следствия двух значений, содержащихся в doxa или opinio. Если судить с эпистемической точки зрения, мнение – это область недостоверного и предрассудочного, а потому оно является условием беспорядка и споров, которые приводят к дестабилизации власти. Цель знания – преодолеть его или перейти от того, что является предметом мнения, к тому, что является предметом доказанных и более не оспариваемых свидетельств. Либо докса преобразуется в эпистему, либо ее необходимо исключить из политической сферы, если последняя должна стать местом гармонии, чего хотели Платон и его последователи. Политическая свобода совершенно чужда этой концепции полиса и политики, чья главная цель – это порядок, а не свобода. Но если судить мнение по его социальному или коммуникативному значению, оно, как считалось в аристотелевской традиции, выступает средством, позволяющим создавать пространство обмена суждениями и идеями. В этом случае свобода выступает условием мира, а не гармонии. Она существенна для жизни полиса, и доказывается это тем, что политика – это дом мнений.
Однако разделение труда между доксой и истиной, при котором первая предназначается многим, а последняя – немногим, не оберегает мнение от критики; в действительности оно заставляет философов прийти к выводу, что ко всем мнениям следует относиться с величайшим подозрением, если только они сами не станут плодом их (то есть философов) критической работы и если только компетентная публика не будет диктовать верную интерпретацию политических вопросов. В следующих трех разделах я покажу, как классический дуализм эпистемы и доксы переходит в концептуализацию мнения в представительной демократии. Как мы выясним, мнению приписывалось три функции: функция социальной интеграции или консенсуса, которая унифицирует общественное поведение и ориентирует политические решения к общей для всех цели, функция выражения частных интересов и идей, создающих входные данные для политической системы, наконец, функция представления политиков и политических программ перед лицом общественного мнения. Форум мнений должен собирать и распространять информацию, стимулировать публичный разум, выражать политическое несогласие и критику, дабы политики и институты оставались на виду у людей.
Интеграция и консенсус
В «Структурной трансформации публичной сферы», являющейся, вероятно, наиболее влиятельным генеалогическим исследованием формирования и вырождения публичного духа в общественное мнение, а общего мнения – в своекорыстные мнения, Юрген Хабермас реконструировал то, как мнения в современном обществе приобретали уважение – в ходе формирования представительного правления и рыночной экономики. Эти институты нуждаются во мнении, чтобы работать в качестве средств обмена информацией и знаниями, благодаря чему продукты становятся товарами, а потребности определяются, рассчитываются и оцениваются. Следовательно, Локк был первым автором, который увидел в мире правдоподобия не только потенцию лжи и пороков, но также и условие для создания неформальной сети общественных отношений и коммуникации суждений. Локк различал три рода законов или источников власти – Бога, гражданское правление и мнение. Мнение для него было синонимом, с одной стороны, принуждения, поскольку оно представляется преходящими взглядами, которые подобно «моде» навязывают свой вердикт выбору частных лиц, а с другой – свободы, поскольку, естественно, мнение развивается и изменяется, когда частные лица могут свободно взаимодействовать и говорить. Следовательно, выступая местом суждения и чувства, мнение является локусом свободы от гражданского закона, но в то же время и источником непрямой, невидимой суверенной власти, которая одобряет или порицает «действия людей, среди которых живут и с которыми общаются»[100]. Мнению сопутствует согласие, а потому у него есть коннотация публичной договоренности и соглашения, но в то же время ему сопутствует и закон («закон мнения и репутации»), а потому оно обладает принудительным характером, хотя, что интересно, по мнению Локка, люди могут прислушиваться к общественному мнению в большей или меньшей степени, создавая определенную дистанцию между своими умами и общим разумом[101].
Кульминация исторической реконструкции Хабермаса приходится на времена Просвещения, когда общественное мнение приобрело благородную способность освобождать власть и от «auctoritas князя, независимой от убеждений и взглядов его подданных», и от пристрастного и предубежденного мира переменчивой толпы[102]. Именно Руссо первым представил разработанную концепцию общественного мнения как базовой формы власти, на которой основывается легитимность системы решения. В его «Общественном договоре» мнение выступает в качестве души общей воли, поскольку оно способно освободить закон от его механического принудительного характера и дать людям ощутить его в качестве их собственного голоса[103]. Функция общего мнения заключается в том, чтобы поддерживать применение права и даже создавать легитимность, поскольку оно выступает основой для различия между простым повиновением и повиновением с убеждением и даже энтузиазмом. Фактически внимание Руссо к повиновению, которое бы не просто следовало за решениями, принятыми в соответствии с установленными процедурами, но и было бы проникнуто воодушевлением, заставило его приписать мнению силу и всеобщность гражданской религии. Но для меня здесь важно подчеркнуть то, что, обсуждая процедуры и институты легитимного правления, Руссо чувствовал, что необходимо ввести власть, которая была бы внешней для воли и которая, однако, укрепляла бы последнюю. L’opinion – это позиция, необходимая Руссо, чтобы доказать то, что правление большинства является условием политической автономии всех граждан, включая тех, кто оказались в меньшинстве, или тех, кто не согласны с большинством. Это и есть вопрос легитимности, условие которой – не только la volonté générale (общая воля, то есть суверенная власть закона), но также и l’opinion générale, общее мнение.
Как объяснял Руссо, когда гражданин голосует в собрании, он должен прислушиваться к своей общественной воле (воле, которая у него есть, поскольку он сам является частью общей воли или гражданства), а не к частной воле. У каждого гражданина две самости (и воли), но только одна имеет право говорить (голосом разума, а не риторики) и быть выслушанной в публичных условиях (на собрании), где принимаются решения. Когда голосующий гражданин чувствует, что нет ничего сложного или проблематичного в том, чтобы дать слово своей публичной самости и не дать говорить самости частной, значит общая воля действует легко и почти автоматически, подобно интуиции (или естественной эмоции), которая руководит суждением таким образом, что гражданину нет нужды использовать свое чувство публичности, которое бы цензурировало его частную самость. Позиция Руссо вдохновила Джеймса Брайса, который заявил, что мера соответствия общей воли общему мнению публики является термометром, который измеряет силу и состояние политической свободы[104]. Чем глубже и проще соответствие, тем меньше разрыв между «легальной» страной и «реальной» страной, то есть между общей волей и общим мнением. Власть освобождается от своего проклятия – отождествления с отношением повеления и повиновения, в котором зреют конфликты и нестабильность, и связывается с согласием. «Соответственно, конфликтный аспект власти – тот факт, что она осуществляется над людьми – вообще исчезает из поля зрения»[105]. Эта протогегемоническая концепция мнения представляет высший уровень прочувствованной легитимности, хотя, в отличие от правовой или институциональной власти, она не всегда тождественна с собой и может испытывать взлеты и падения, а потому нуждается в постоянном подкреплении со стороны граждан и институтов (Руссо считал, что цензура играет центральную роль в стабильности и единстве республики). Оба этих проявления суверенитета существенны, причем они находятся в отношении взаимного притяжения и отвращения, акции и реакции. Их потребность во взаимном подкреплении указывает на то, что вопрос легитимности или политической свободы – вопрос динамического, а не статического условия. Оно напоминает эластичное отношение равновесия двух полюсов (общей воли и общего мнения) – от максимального перекрывания до минимального.
В двенадцатой главе второй книги «Общественного договора» Руссо перечисляет четыре рода законов (где «закон» является легитимной формой, которую может принимать воля суверена), три из которых относятся к одному типу, тогда как последний является уникальным. Три первых и являются, собственно говоря, законами, а именно судебный, формальный и процедурный (политический закон, гражданский закон и уголовный закон). Четвертый составляет свой собственный класс, являясь странным родом суверенного закона. «Я разумею нравы [moeurs], обычаи и, особенно, мнение общественное. Эта область неведома нашим политикам, но от нее зависит успех всего остального». Этот закон («наиболее важный из всех») – и есть то, что мы сегодня называем публикой или же общественным мнением. Он действует, скрываясь за нашим частным разумом, подобно невидимой силе (похожей на гравитационную силу у Ньютона) и косвенно влияет на решения, не властвуя над ними прямо. Это голос суверена (Руссо использует слово «закон», которым у него обозначается исключительно голос суверена), хотя он и не похож на волю и действует не в присутствии институционального суверена (собрания), а за ним посредством симпатизирующего воображения, а не рациональных умозаключений. Однако без него правовая система была бы чисто формальной нормой, сознательно никак не принимаемой гражданами; закон бы действовал де-юре, но де-факто не поддерживался бы народом в целом, а потому некоторые ощущали бы его как нечто подавляющее, то есть как незаконный закон. Чтобы правление большинства не противоречило политической автономии, два этих уровня законности всегда должны быть связаны друг с другом. Формальный суверен не восполняет отсутствие неформального, а общая воля – отсутствие общего мнения.
Диалектика большинства и меньшинства предполагает наличие как неформального, так и формального суверена, причем гражданин чувствует себя свободным и тогда, когда он подчиняется закону, и тогда, когда он не согласен с ним. Единство политического тела поддерживается тем, что все граждане согласны с целями политического порядка, с принципами, которые позволяют средствам действовать, а также с самими средствами, которыми оперирует правительство и на которых основаны совещательные процессы (мы можем назвать это базовым согласием по конституционному этосу). При наличии этого базового согласия политическое сообщество в целом, даже если превалирует мнение большинства, должно сохранять возможность представлять себя в качестве свободного сообщества, поскольку оно больше воли большинства и количественного согласия как такового[106].
Следовательно, l’opinion générale является чувством и видением единственного инклюзивного дискурса, который объединяет страну; хотя граждане могут не соглашаться по многим частным вопросам, по которым им надо вынести решение, такое единство Руссо в конце «Общественного договора» рассматривает в качестве некоего религиозно-этического единства, поскольку, если оно действует, оно способно требовать повиновения, не прибегая к рациональному убеждению. Именно потому, что гражданское общество является сложным, конфликтным и плюральным, политическому сообществу требуется общая грамматика. Мнение, как остроумно заметил Георг Вильгельм Фридрих Гегель, – это территория, на которой индивидуальная свобода суждений и мнения встречается и сталкивается с «абсолютным универсальным» благом (общим интересом государства). Это напряжение и конфликт – конститутивный характер мнения и одновременно оправдание свободы коммуникации и прессы; в этой динамике отображается различие между органическим единством древних городов-государств и неорганической общностью современных обществ, которая столь наглядно воплощается в представительстве. Следовательно, общественное мнение является современным феноменом, и, как пишет Гегель:
Поэтому общественное мнение содержит в себе вечные субстанциальные принципы справедливости, подлинное содержание и результат всего государственного строя, законодательства и всеобщего состояния вообще в форме здравого смысла людей как той нравственной основы, которая проходит через все, что принимает форму предрассудка, а также истинных потребностей и правильных тенденций действительности. Вместе с тем, когда эти внутренние моменты… становятся в общих положениях представлением… выступает вся случайность мнения, его невежество и извращенность, ложность знания и суждения… Поэтому общественное мнение заслуживает в одинаковой степени как уважения, так и презрения, презрения – из-за его конкретного сознания и внешнего выражения, уважения – из-за его существенной основы, которая, будучи более или менее замутненной, лишь светится в этом конкретном.
Гегель приходит к выводу, что свобода коммуникации и свобода прессы – это условия, которые наделяют смыслом двойственный характер мнения[107].
Ключевая проблема современных демократий заключается как раз в том, что акторы, поставляющие этот инклюзивный дискурс, являются, как правило, частными субъектами (классами, группами или медиаэкспертами), хотя они и осуществляют публичную функцию. Современные теоретики, размышляющие об этом затруднении, спорили о том, должна ли у демократий быть именно общественная система широкого вещания (вроде Би-Би-Си), целью которой была бы поддержка этой инклюзивной общности базового представления страны в целом, или же «ценность инклюзивного дискурса не имеет логического и уж точно – необходимого отношения к той или иной конкретной форме владения различными „медиаголосами“»[108]. Естественно, невозможно дать универсальное предписание или норму, поскольку ответ на этот вопрос очевидным образом зависит от политического и исторического контекста. Однако в качестве общей максимы я бы предложила считать, что «общественное мнение» (название объекта, которому политологи и социологи пока еще не смогли дать бесспорное определение)[109] – это множественное пространство, составленное из различных видов мнения. Эта множественность и многообразие сами играют роль объединяющего «инклюзивного дискурса», располагающегося под демократической политикой в качестве условия, соотносящего доксу и свободу.


