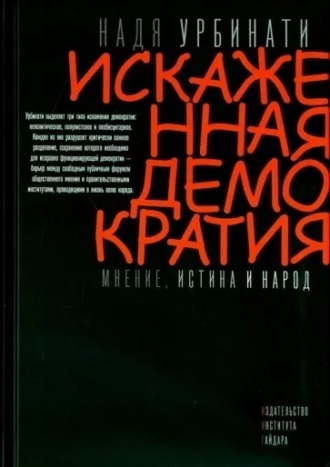
Надя Урбинати
Искаженная демократия. Мнение, истина и народ
Что такое демократическая диархия?
Диархия воли и мнения относится, в частности, к представительной демократии, системе, в которой собрание выборных представителей, а не сами граждане, наделяется обычной функцией законотворчества. Парламент, являющийся ключевым институтом выборной демократии, предполагает и поддерживает постоянное отношение с гражданами – как частными лицами, так и политическими группами или движениями, а мнения – это средство, благодаря которому это отношение развивается. Теоретическое представление современной демократии как диархии приводит к двум тезисам: во-первых, «воля» и «мнение» – это две власти демократического суверена, а во-вторых, они отличаются друг от друга и должны оставаться отличными, хотя им и нужна постоянная коммуникация. Используемая мной терминология является переложением языка суверенитета, который в его современной кодификации описывал власть государства как «волю», позволяющую принимать правомочные решения, в равной мере обязывающие всех подданных. С точки зрения Жана Бодена, Томаса Гоббса, Жана-Жака Руссо и теоретиков конституционного правления XIX и начала XX веков, «воля» означает процедуры, правила и институты, то есть нормализованную систему публичного поведения, которая порождает и исполняет закон.
Однако классическая теория суверенитета, которая была создана до того, как началось развитие представительной демократии, не рассматривала суждение или мнение подданных в качестве функции суверена[53]. Тогда как демократия, особенно если она осуществляется посредством выборов, не может игнорировать то, что граждане думают или говорят, когда действуют в качестве политических акторов, а не избирателей. Следовательно, в представительной демократии суверен – это не просто уполномоченная воля, заключенная в гражданском праве и осуществляемая государственными должностными лицами и институтами, но, по сути, двойственная сущность, в которой одним компонентом является решение, а другим – мнение тех, кто подчиняется и лишь косвенно участвует в правлении. Мнение причастно суверенитету, хотя у него нет никакой правомочной власти; его сила является внешней для институтов, а его авторитет – неформальным (поскольку оно не переводится напрямую в закон и не наделено признаками обязательности). Представительная демократическая система – «та, в которой высшая власть (высшая потому, что только она одна имеет право использовать силу в качестве последнего средства) исполняется во имя и от имени народа благодаря процедурам выборов»[54].
Мне важно с самого начала прояснить, что я использую слова «мнение» и «политическое суждение» в качестве синонимов. Как мы увидим в следующей главе, существуют разные виды суждений, и не все они относятся к области законотворчества. Суждение судов отличается от суждения граждан, прессы и представителей. Аристотелевская идея политики, формулируемая в его «Риторике», лучше всего подходит для того, чтобы схватить специфику политического суждения (и делиберативного дискурса) как мнения, которое производится на публичном форуме равными гражданами и которое в отличие от научного суждения и судебного приговора не нацелено на умозаключение, каковое можно было бы оценить как истинное или ложное. Если в нескольких словах попытаться заранее изложить то, что я буду развивать в следующей главе, нам важно отличать политическое суждение от других родов суждения, если мы желаем понять – политическое обсуждение состоит, собственно говоря, в том, что граждане формируют мнения относительно порядка действий, которого им стоит придерживаться или от которого, напротив, надо отказаться. Свободные граждане выдвигают политическое суждение с целью убедить друг друга принять решение по определенному вопросу, который относится к их будущему и обладает лишь правдоподобным или вероятностным характером.
С политическим суждением возникает не только согласие, но и разногласие; это процесс коллективного обсуждения, который нуждается в правовом и процедурном порядке, чтобы люди заранее знали, что они могут публично и безопасно изменить свое мнение. Вполне предсказуемыми оказываются интегративные и коммуникативные следствия политического суждения. В самом деле, граждане демократии используют все информационные и коммуникационные средства, доступные им, чтобы заявить о своем присутствии, выступить за или против определенного предложения и следить за власть имущими, причем они знают, что все это не менее ценно, чем процедуры и институты, производящие решения. Этот обширный круг действий в политической жизни демократического гражданского общества я отношу к категории политического суждения или мнения. Проблема, поджидающая представительную демократию, состоит в том, что, хотя «волю» и «суждение» нельзя по-настоящему отделить друг от друга, они должны работать раздельно, быть и оставаться различными. Конечно, здесь мы говорим о нормативном разделении: мы не хотим, чтобы мнение большинства стало тождественным «воле» суверена или чтобы наши мнения интерпретировались в качестве пассивных реакций на спектакль, поставленный на сцене нашими лидерами. Поскольку представительная демократия является правлением посредством мнения, публичный форум держит государственную власть под присмотром, сохраняя ее публичность, поскольку, с одной стороны, закон требует того, чтобы она отправлялась на глазах у народа, а с другой – потому что она никому не принадлежит (в соответствии с выборным назначением, постулирующим то, что политическая власть не относится к тому или иному роду владений). Критерий, вытекающий из парадигмы диархии, которой я буду пользоваться в этой главе, звучит так: к публичному форуму, поскольку он представляется двойственной властью, следует подходить с позиции «той самой эгалитарной ценности, что воплощена в равном праве людей на самоуправление»[55].
Представительная демократия
Прежде чем перейти к анализу доксы, я должна сделать еще одно пояснение. Демократическая диархия имеет существенное отношение к представительному правлению, в котором воля и суждение не сливаются в прямой власти голосования, имеющейся у каждого гражданина, а остаются раздельными модусами участия, так что только суждение постоянно находится в руках у всех граждан. Однако диархия – это не только дескриптивное понятие; наиболее важно то, что оно указывает на разделение функций и на принцип равных возможностей, полагая их в качестве условий, относящихся как к мнению, так и к голосованию. Действительно, диархия заключается в сохранении отличия решений и обсуждений, которые проходят в институтах, от неформального мира мнений, но при этом данное отличие не должно означать, что важны лишь решения и обсуждения, поскольку они могут быть выражены с математической точностью, или, напротив, что важны исключительно неформальные мнения, раз они понимаются в качестве подлинного голоса народа, сбрасывающего путы конституированной власти.
Идея демократии как диархии в равной мере далека как от чисто электоралистской концепции демократии (голосование как метод выбора тех, кто правит), так и от концепции, истолковывающей правление посредством мнения в том смысле, что суверенитет принадлежит большинству, проявляющему его аккламацией, внешней для избирательных процедур и их превосходящей. Соответственно, политическая свобода утверждается не только в правовой системе, но также и в восприятии граждан. Мы могли бы сказать, что мир мнения создает буферную зону или дистанцию между гражданами и политической властью и что эта дистанция открывает место, с одной стороны, для суждений граждан о власти, а с другой – защиты граждан от нее[56]. Одно из следствий диархической позиции, то есть одно из тех, что меня интересует, состоит в том, что право на свободу слова и свободу мнения – это существенный компонент политических прав гражданина, а не только частного лица. Право принимать участие в формировании мнений – это право, производящее власть, а не только право, защищающее от власти[57].
Неформальная природа власти, принадлежащей политическому мнению, требует некоторого уточнения. Верно то, что «публичное обсуждение само по себе ничего не решает»[58], что подготовка и формирование решений в процессе дискуссии не дает никакой гарантии того, что на избирателей повлияют верные доводы. Такой гарантии и не может быть, поскольку голосование является произвольным и не предполагает отчета (мы ни перед кем не отчитываемся, когда опускаем бюллетень в урну, и это условие нашей автономии) и поскольку неравенство между говорящими и слушающими является частью политической игры. Формальное равенство, делающее нас гражданами, не выравнивает данную нам речью власть влиять друг на друга[59]. Представительство не меняет того, что демократия основана на мнении; скорее даже, оно еще больше подчеркивает этот факт. По сути, представительная система наделяет форум определяющей ролью, поскольку она состоит в выведении политики на публику, ведь граждане должны судить о политиках и выбирать их в соответствии с тем, что они говорят и делают, а также выносить о них свое проспективное и ретроспективное суждение.
Следовательно, причастность сферы мнений к суверенитету зависит от того, какую форму принимает суверен. Голосование за представителя и его выбор – вот что позволяет форуму быть причастным к суверенитету, определяя ту точку отсчета, по отношению к которой мнение играет свою роль. Теоретики демократии справедливо утверждали, что, поскольку в политике основную роль играет решение, выборы являются единственным подлинно демократическим институтом[60]. Поданные голоса – это наиболее надежные публичные данные из всех, какие у нас только есть, а голосование – это единственный имеющийся у граждан формальный способ наказания и устрашения своих правителей. «Голосование – это навязывание одной воли другой», а не просто мнение; именно оно при отсутствии оснований для сомнения считается решением[61]. Однако многое значит и то, как одна воля навязывается другой, что показывают различия между прямой и представительной демократией. Современная демократия, поскольку она является косвенной (граждане позволяют законодателям принимать решения от их имени), отмечает собой завершение политики однозначных ответов в стиле «да или нет» и превращает политику в открытую арену конкурирующих мнений и решений, которые всегда можно пересмотреть. Поэтому, с точки зрения исследователей представительного правления, косвенная сила мнения характеризует современную демократию не меньше, чем избирательное право, причем характеризует во множестве отношений, которые мы не всегда сразу улавливаем, если сосредотачиваемся лишь на одной компоненте диархии, а именно на власти голосования.
Фактически представительная демократия способна заменить насилие подсчетом голосов (эту способность исследователи именовали «чудесной») лишь потому, что вес голосов превышает весомость числа. Когда политика структурируется избирательными циклами и политическими предложениями, воплощаемыми в кандидатах, мнения создают нарратив, развертывающийся во времени. Поэтому выборное назначение представителей становится плодородной почвой для идеологических описаний, которые выдают себя за взгляд на все общество в целом, на его устремления и проблемы, которые одновременно связывают и разделяют граждан. Именно этим объясняется то, что между кандидатами опознается разница, а благодаря такому опознанию они становятся предметом суждения избирателей. Основываясь на этом, я утверждаю, что политические мнения никогда не обладают равным весом, даже в гипотетическом случае двух разных мнений, получающих одно и то же количество голосов. Если бы вес голосов был равным, диалектика мнений и самого голосования не имела бы особого смысла. В представительной демократии голосование – это попытка наделить идеи весом, а не уравнять их вес[62].
Следовательно, в отличие от прямой демократии, в представительной демократии голосование побуждает граждан быть всегда не только избирателями, преодолевать границы акта голосования в попытке заново оценить отношение между весом своих идей и весом голосов в межвыборный период. Только в прямой демократии мнения тождественны воле, поскольку они непосредственно выражаются в решениях[63]. В прямой демократии суверенитет является моноархическим. Однако представительная демократия разбивает это единство, поскольку в ней мнения приобретают власть, независимую от акта голосования или воли.
Люди, выражающие свои мнения, стремятся к тому, чтобы эти мнения были замеченными и оказали влияние не только в день выборов, и хотя эти мнения не могут претендовать на какую-либо легитимную роль в принятии решений, они создают открытый публичный форум идей, который расширяет политическую деятельность, обусловливая то, что представительная демократия в определенном отношении больше выборной демократии и при этом отлична от прямой демократии. С другой стороны, хотя выборы (вместе с референдумами) стали единственной полномочной формой прямого присутствия граждан, выбираемые кандидаты не воспринимаются в качестве назначенных должностных лиц, правящих вместо народа, да и не должны ими быть. Они хотят поддерживать (и, по сути, должны, если желают переизбраться) коммуникацию со своими избирателями[64]. Эдмунд Берк, наиболее влиятельный теоретик политического представительства как свободного мандата, не сомневался в ценности такой коммуникации, которая, как он добавлял, должна быть откровенной и постоянной[65]. Еще более ясно высказывались американские отцы-основатели, которые ценность для свободы этой «цепочки общения» между гражданами и институтами выводили из опыта британского владычества, утверждая, что парламент относился к колонистам точно так же, как и к подавляющему большинству британского населения, поскольку его авторитет проистекал исключительно из представительства, но не из коммуникации[66].
Если следовать Берку и отцам-основателям, можно сказать, что именно потому, что представители не отвечают в юридическом смысле перед теми, кто выбрал их, они должны отвечать перед ними иными средствами. Свободный и непрерывно действующий канал коммуникации между ними и гражданами весьма важен для того, чтобы избиратели воспринимали их в качестве законных должностных лиц. Правовая легитимность – это лишь одна сторона медали. Мнения работают в качестве силы легитимности, связывая и объединяя людей внутри и вне институтов (в которых такая связь может также повлечь разногласия и утрату доверия). Они выполняют эту роль, поскольку предполагают не только то, что люди хотят высказываться свободно и открыто, но и то, что они хотят знать о происходящем в чертогах власти. Их значение в том, что для правительства они должны быть бременем, поскольку правление основано как раз на мнении.
Круговой характер наделения властью и проверки власти – вот причина, по которой власть мнения так сложно научно определить и нормативно регулировать, но именно это задает ее практическую необходимость. Эта сложность и уклончивость заставила Давида Юма определить «общественное мнение» как «силу», благодаря которой большинство легко управляется меньшинством, а меньшинство не может избежать контроля со стороны большинства[67]. После бросания «бумажных камней» именно круговое движение мнений связывает граждан друг с другом, соединяя государственные институты и общество[68]. Этим определяется смысл представительной демократии как диархии. Но этим же объясняются риски, заключенные в этой диархической структуре.
Взаимодействие народа и его кандидатов (и представителей) может заставить некоторых думать, будто самые шумные граждане или публичные дебаты на телевидении, а также лоббисты имеют законное право требовать суверенной власти. Феномены популизма и плебисцитаризма зародились в демократической диархии как желание преодолеть дистанцию между волей и мнением, достичь единодушия и однородности, каковые являются идеализацией, характеризовавшей демократические сообщества со времен античности[69].
С другой стороны, в силу своей диархической природы представительная демократия должна совершать дополнительное усилие ради сохранения имеющейся у граждан возможности участвовать в создании неформального суверена. Поскольку между общественным мнением и политическим решением существует обязательная связь, озабоченность теми непропорционально большими возможностями влияния на избирателей и правительства, которые есть у богатейших или могущественных в социальном отношении людей, является вполне обоснованной. Эмпирические исследования доказывают то, что эта обеспокоенность уместна, когда показывают, насколько экономическое и политическое неравенство «взаимно подкрепляют друг друга, так что в результате богатство с течением времени, скорее, накапливает власть, а не рассредотачивает ее»[70]. Теоретики демократии считают такие данные аргументом, подтверждающим то, что в представительной демократии граждане могут страдать от коррупции нового рода, а именно «лицемерной коррупции», заключающейся в недопущении тех, у кого есть равные гражданские права, к осмысленному участию в форуме, причем в таком случае они не могут доказать своего исключения, поскольку сохраняют за собой право бросить «бумажный камень» в избирательную урну, что является фактическим свидетельством их равного гражданского статуса[71].
Основной аргумент этой главы состоит, таким образом, в том, что, когда мнение включается в нашу концепцию демократического участия, политическое представительство должно связываться с вопросом обстоятельств формирования мнений, то есть проблемой, относящейся к области политической справедливости и равных возможностей осмысленно применять политические права, которые должны быть у граждан[72]. Равные права граждан на равное участие в определении политической воли (один человек – один голос) должны совмещаться с конкретными возможностями получать информацию, формировать, выражать, высказывать свои идеи, а также придавать им публичный вес и влияние. Хотя влияние вряд ли может быть равным и хотя его трудно точно подсчитать, может и должна быть возможность его осуществлять. И хотя мы вряд ли можем совершенно убедительно доказать, что существует причинная связь между медиаконтентом, общественным мнением и политическими результатами или решениями (никакие данные не способны доказать то, что Берлускони три раза выигрывал выборы благодаря своей телевизионной медиаимперии), барьеры, ограничивающие равные возможности участия в формировании политических мнений, следует удерживать на низком уровне, требующем постоянной проверки. Это наиболее важное значение политического равенства как средства защиты свободы, и его-то я и буду отстаивать в этой книге, подчеркивая ту мысль, что главное для демократии – включение в политический процесс, поскольку она озабочена «причинами исключения людей», а деньги – это сильная причина исключения, даже если последнее не принимает радикальной формы отмены избирательного права[73]. Принципиальное рассуждение, значимое для голосования, работает и для мнения, поскольку, хотя мы вряд ли может доказать, что голосование приводит к неким желательным результатам, мы не делаем отсюда вывод, что равное право на него бессмысленно. Как уже было сказано, нормативный характер демократических процедур покоится на том, что практика демократии является ее же ценностью[74].
Докса, политика и свобода
Греческое слово doxa и латинское opinio сочетают в себе два значения, которые стали представлять две важных традиции западной политической философии. С одной стороны, докса имеет философское значение – как идея, не восприимчивая к истине, а с другой – она имеет гражданское значение – как суждение особого рода, которое показывает, как чей-то взгляд или поступок принимается другими. В первом значении докса оценивается с точки зрения когнитивного результата. Во втором – с позиции разговора, который благодаря ей идет между людьми, которые взаимодействуют в общем публичном пространстве и, более того, создают законы. Две эти великие традиции мы можем возвести к двум величайшим философам античности – Платону и Аристотелю, выделив при этом промежуточную стратегию в прагматическом решении Цицерона, отделяющем философскую sermo (речь) от гражданского eloquentia (красноречия) в республике, дабы судить о них с точки зрения двух различных ценностей – истины в первом случае и свободы во втором[75]. Концепция политики как искусства, посредством которого разные, не знакомые друг другу люди, регулируют свое поведение и отношения за счет согласованных норм, относится к аристотелевской традиции. Именно в этой традиции политический дискурс ведет к стабильности и свободе.
Серая зона
Как писал Платон, мнение – это название для взгляда или убеждения, которые не могут пройти испытание философским анализом; докса не относится к «episteme» или области знания. Мнение живет в серой зоне между истиной и ложью, а потому, как несложно предсказать, в народных правлениях оно создает возможности для хитрых и амбициозных лидеров, которые фабрикуют доводы и идеи, чтобы с народного согласия заполучить власть, не обязательно преследуя интересы народа. Мнение, занимая промежуточное положение между знанием и невежеством, предполагает постоянное изменение, но не потому, что оно стремится к приблизительной истине, а потому, что в силу своей недостоверной и неустойчивой природы оно склоняет людей подхватывать различные взгляды и стили мышления, экспериментировать с ними, принимая или изменяя свои решения без гарантии того, что их поиск когда-нибудь завершится.
Мнение по самой своей сущности укоренено в эмоциях людей и состоит в прямой связи с действием. Поскольку оно выступает посредником между страстями и решением о поступке, Платон и его бесчисленные последователи считали, что оно опасно для политики. Мнение – это диспозиция нашего разума, которая заставляет нас смотреть на одни и те же вещи с разных точек зрения, осложняя познание истины этих вещей, поскольку чаще всего одни и те же вещи «окажутся в каком-то отношении прекрасными и в каком-то безобразными»[76]. Мнимое, следовательно, легко соединяется (прежде всего, философами) с предубеждениями и предрассудками; оно представляет собой «то, что колеблется в этом промежутке, улавливается промежуточной способностью»; это иррациональная область «неустановок», которой должно сопротивляться правление, опираясь на независимый класс экспертов или компетентные совещательные комиссии[77]. Мнимое невозможно исправить, как нельзя его и отобразить в истинном виде, а когда оно укореняется в народной культуре, то приобретает характер естественной данности, наделенной авторитетом нормы[78]. Мнение по этой причине может стать невидимым авторитетом («ярмом», если использовать термин Токвиля), которое заставляет людей нечто делать или от чего-то воздерживаться, поскольку на них действует сила принуждения, исходящая, как кажется, из них самих, от их предков и традиций[79]. Мнение делает людей одновременно деятелями и жертвами; оно создает конформизм или же, напротив, отказ от него, уклонение от форума и движение по «спирали молчания»[80]. Например, Марк Туллий Цицерон мыслил добродетели не столько качествами индивида, сколько качествами укорененного в обществе человека, которого формирует образование, вырабатывая в нем поведенческие привычки, о которых судят и которые оценивают другие люди[81]. Следовательно, репутация или отражение одной самости в сознании других, честь или наше желание соответствовать тому, что другие считают желательным, пристойным или правильным, – вот что превращает мнение в источник нового суверенитета, который соответствует характеру народного правления и может создать почву для новой формы деспотического господства, как доказывали Милль и Токвиль.
В целом мнение не может порождать истину, хотя оно может быть преодолено только истиной. И лишь просвещение рассеивает завесу предрассудков, которые представляются мнениями, повторение которых в течение какого-то времени привело к их сгущению и превращению в своеобразный осадок – именно так, как напластование, Парето будет определять тот набор мнений, который формирует всеобъемлющее повествование или идеологию. Поиск оснований вещей в области политики, а также философии и морали, требует достижения такого определения, которое схватывает «сами вещи, которые всегда одни и те же в каждом отношении»[82]. Очевидно, решения, относящиеся к вопросам правильности и неправильности, не могут быть предметом голосования, поэтому любители знания вряд ли могут быть любителями демократии. Как заметил Теренс Болл, авторитет, основанный на episteme, стирает различие между «обладать авторитетом» и «быть авторитетом», сводя первое ко второму[83]. Он связывает авторитет с качествами того или иного лица и отделяет его от институтов и процедур.
Демократия, как можно было бы заключить из посылок Платона, тяготеет к релятивизму, поскольку она основана на мнениях. Вывод из этой позиции, нацеленной против доксы, состоит в критике имманентности (то есть характеристики, которая, как я буду объяснять в следующей главе, вытекает непосредственно из процедурной интерпретации демократии), и ее претензия в том, что ради некоторых видов блага, таких как теологическая истина, философский разум, а также авторитет харизматического лидера, можно обратиться к трансцендентности. Независимо от рода блага, ради которого это делается, такая критика имманентности демонстрирует глубокую неудовлетворенность демократией, обусловленную не тем, что демократическая политика не оставляет места для эпистемических притязаний, а тем, что она угрожает им, относясь к ним так, словно бы у них не было ни особого авторитета, ни постоянного значения. С точки зрения того же Калликла, который в платоновском «Горгии» представляется образцовым примером ангажированного гражданина, практиковать риторику – значит жить ради политики или же иметь только одну идентичность – «общественного человека», у которого нет трансцендентной точки зрения, которая отделяла бы его от мнения форума[84]. Именно благодаря изменчивости или процедурной организации, нацеленной на возможность изменений, демократия становится правлением, основанным на мнении. Демократия – это правление посредством обсуждения, поскольку это правление мнения[85].
Публичное обсуждение в полисе
Несколько иная позиция была сформулирована через несколько лет после Платона Аристотелем, который встроил взгляд Платона в такое определение мнения, которое можно было примирить с коллективным обсуждением и свободой. Согласно Аристотелю, мнение в собрании равнозначно тому, что римляне называли «правдоподобием», которое выступало самостоятельной разновидностью истины (verum similes или тем, что похоже на правду), а не серой зоной, далекой от истины и постоянно грозящей превратиться в ложь; мнение представлялось процессом приобретения знаний, которые считаются «общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к какой-либо отдельной науке»[86]. Еще более важно то, что мнение выступало синонимом конституционного политического порядка или республики (или, если использовать современный жаргон, легитимного правления), а потому и свободы. Оно использовалось, чтобы выделить саму политику в качестве «диалоговой деятельности, которой заняты граждане»[87]. Связь мнения и свободы – это основополагающая идея риторической традиции, открытой Аристотелем.
Аристотель различал три функции правления, с которыми он связывал три различных формы суждения. Работа «законодателя» (nomothéton) в существенном отношении отличалась от деятельности как «общественного собрания» (ekklesia), так и суда (dikastes). Законодатель (учредитель или, в современных условиях, конституционное собрание) применяет такое суждение, которое является «всеобщим и приложимым к будущему», то есть он создает условия для последующих суждений касательно того, что является «важным или неважным, справедливым или несправедливым» в конкретных случаях, становящихся предметом решения. Он задает критерии, правила и процедуры, каковые будут направлять законодателей (общественное собрание) и судебные органы (суд и судей), которые должны принимать решения по частным актуальным вопросам, прилагая к ним эти критерии или законы. В двух последних областях (собрания и суда) на сцену выходят страсти, поскольку обсуждаемые вопросы не записаны в законе (с которым, как предполагается, все единодушно согласны), а нуждаются в решении за счет применения закона, который, следовательно, выступает в качестве общей предпосылки суждения, а не вывода[88]. Такая «конституционная» концепция полиса предполагает, что «несогласие» устранить невозможно и что «когда условия верны, весь город может иметь общее правильное понимание того, в чем состоит благополучие человека», каковое базовый закон должен передавать из поколения в поколение, создавая тем самым этос полиса и позволяя людям принимать решение в рамках конституции[89].
Предположим, к примеру, что основной закон требует равного гражданского статуса для всех взрослых людей. Тогда нужны частные законы, которые бы позволяли реализовать данное положение и регулировали его применение, указывая, когда и при каких условиях этот общий критерий применяется – например, определяя возрастной порог. Решение, согласно которому частные лица должны получать избирательное право в возрасте восемнадцати лет, не является выводом, который можно было бы признать правильным или неправильным, поскольку он является результатом общепринятого взгляда или же правовой и моральной традиции (полагающей, что люди должны отвечать за свои поступки и соответственно нести наказание), с которой согласна большая часть общества: все это вместе (то есть общепринятый взгляд, правовая или моральная традиция и общее мнение) можно считать «доказательством» правдоподобия решения касательно возраста совершеннолетия. Однако было бы бессмысленно судить о возрастном пороге совершеннолетия, пытаясь выяснить, насколько он верен или неверен. Действительно, восемнадцатилетний порог не более «верен» сегодня, когда люди согласны с ним, чем в прошлом, когда считалось, что совершеннолетие должно наступать, скажем, в тридцать или сорок лет. Это не вечная истина, а правдоподобная, поскольку она предполагает контекстуально обоснованное представление о правильном и неправильном, соотносимое с основополагающим законом, требующим равного гражданского статуса.


