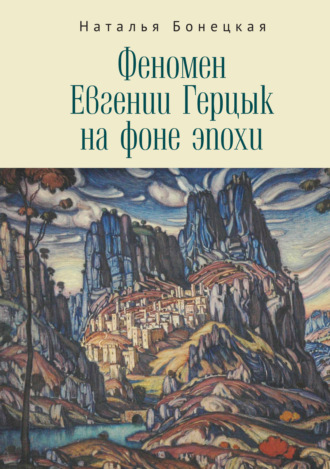
Н. К. Бонецкая
Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи
Да, нужно было через десять лет встретиться с Волошиным, с живописью Богаевского, услышать миф о Киммерии, чтобы потом авторитетно утверждать, что у нашей земли свой закон красоты»[42].
Этот «миф» и этот «закон» мы и попытались вскрыть, обратившись к трудам Волошина.
Наш тезис о том, что Крым – точнее, Киммерия, восточное его побережье – сделался для «беспочвенных» дотоле сестер Герцык духовной родиной, не следует понимать в каком-то переносном сентиментальном смысле: когда Евгения признается, что искра духа запала в нее впервые на балкончике их судакского дома (мы уже цитировали эти ее слова), она указывает на весьма важный факт своей внутренней биографии, удержанный памятью на всю жизнь. Не случайно и глубоко и другое ее позднее свидетельство: «Ах, мил нам Судак и тем, что нас, бездомных, он привязал к земле, врастил в эту не слишком тучную – как раз по нас – почву»[43], – «почву», разумеется, экзистенциально-духовную. Намечая вехи духовного пути Евгении, мы опираемся на ее собственное осмысление прошлого, на ее философию собственной жизни, – такая концептуальная канва нет-нет да и обнаруживается в ходе ее вроде бы безыскусного рассказа о событиях. Евгения и Аделаида духовно родились на земле Великой богини; они открыли для себя Мать-Землю, надо думать, с помощью Волошина, но лишь потому, что шли в том же направлении – пытались осмыслить явную для них красоту киммерийской природы. Они интуитивно подступили к бытийственным основам этой красоты – к той духовной реальности, которую знали и почитали языческие народы еще до Христа. «Религия красоты», стихийными адептами которой они сделались в атмосфере эстетизма, культивировавшейся ими в александровской глуши, на крымской земле углубилась и зазвучала совершенно новыми обертонами.
В Киммерии Евгения и Аделаида духовно родились как язычницы. Эти две души уже изначально испытывали влечение к язычеству: вспомним хотя бы их «детские игры» – исступленные экстазы при поклонении деревьям, имитацию пыток, подражание пифиям… Впоследствии Евгения будет беспощадной разоблачительницей своего языческого начала. Она возненавидит столь хорошо ей знакомые «темные, жадные молнии чувственности», сотрясающие все существо[44], с ужасом признает, что и во внешности ее порой мелькает что-то по-язычески непристойное – «хищные кривые зубы, и губы красные, и изгибаюсь, как лоза…»[45] Но порой она принимает свое внутреннее язычество сознательно-волевым актом – даже с неким вызовом, и, сверх того, подводит под него философский фундамент: «Я <…> не люблю дух аскезы, отрешенности, исповедую страстную “верность земле”, – записывает она в дневнике, находясь на “пике” своего “дионисизма”. – <…> Знаю наверно, что на земле, в земном существовании, не тайна познания божества (трансцендентного Бога-Творца христианства. – Н. Б.), а тайна “верности земле” есть сокровеннейшая и высшая. На земле в эту тайну облечено божество, в тайну любви земной»[46]. «Верность земле» – это лозунг Ницше[47], взятый на вооружение Вяч. Ивановым – личностью ключевой в жизни Евгении Казимировны. Почему она с такой готовностью подхватила его, сделав жизненным девизом? Не в силу ли своего собственного, отчасти языческого устроения, поддерживаемого созерцательной жизнью в окружении киммерийских гор? Мистическая «земля» Ницше – Иванова – в рецепции Евгении Герцык, она же земля
Киммерии, а глубинно – «Земля-Гея», «Мать-Земля», херсонесская Дева и Великая богиня тавров. Со всеми этими реалиями и именами соотносился внутренний опыт – целый комплекс чувств и смыслов, – яркая, «земная» сторона жизни. Евгения претерпела нешуточную борьбу этой своей языческой стороны души с действительно христианским началом. О перипетиях этой борьбы, – вообще о собственной глубинной религии Е. Герцык мы детально поговорим впоследствии. А здесь, размышляя о ее духовном рождении в язычество – почитание Матери-Земли, заметим, что и христианство Евгении, даже и после ее сознательного обращения, смешивалось в ее внутренней жизни с языческими представлениями (стоит подчеркнуть, что понятия «язычество» и «христианство» мы не привносим искусственно в ее искания: она активно пользуется ими в переписке и дневниках 1900—1910-х гг., они суть категории ее самопознания и религиозного самоопределения).
В страстном алкании веры Евгению захватывают такие представления, как «образ матери» и «жертва матери». О Боге она рассуждает в духе матриархата, и христианство, на подступах к которому она оказалась в конце 1900-х гг., также выступает поначалу как одна из разновидностей почитания Великой богини: «В самом сердце земли и в тайном центре сердца человеческого – икона Богородицы, и святее нет, и ближе нет»[48]. «Богородица – Мать сыра Земля»: вспоминается вера Хромоножки из «Бесов» Достоевского. Если Иванов сближал Христа с Дионисом, то его ученица Евгения Герцык в своих религиозных переживаниях Богоматерь подменяла «Матерью» языческой. Ее христианство позднее приобретет окраску специфически мистериальной религии, – к интуициям языческим присоединятся эзотерические идеи теософии и антропософии. Этот «магический» уклон позволяет провести параллель между религиозностью «утонченно-культурной» (Бердяев) Евгении и народным православием, сочетающим поклонение Христу с представлениями древнего язычества. Молитва, церковные таинства, – даже сама Христова Личность никогда не играли в ее жизни столь же большую роль, как в случае ее сестры: христианство Аделаиды Герцык, при всей ее мистической гениальности, более традиционно, богомольно, безыскусно[49]. Евгения вообще в большей степени, чем Аделаида, была захвачена неоязыческим вихрем эпохи декаданса и порой приближалась к опасной грани откровенного демонизма. Аделаиду смиряла и удерживала ее роковая ноша «предвечной вины», глухота, болезненность. Но и у цветущей Евгении был, надо полагать, могучий ангел-хранитель, не позволявший ей сделаться «менадой» – утратить свою волю и предаться дионисическому оргиазму, чего бы хотел от нее Иванов. «Вы не менада», – раздраженно бросил однажды мистагог своей строптивой ученице. Внутренняя властная рука всегда удерживала ее, уже готовую встать на гибельный путь греха и саморасточения.
Судакский дом Герцык-Жуковских правомерно рассматривать – наряду с домом-музеем Чехова в Ялте, волошинским «Домом поэта» в Коктебеле, музеем Грина в Старом Крыму – в качестве одного из духовных центров Крыма позднейшей эпохи. В настоящее время это пока еще вряд ли осознано: дом по адресу Судак, улица Гагарина, 21 разделяет в этом отношении участь мемориальных мест, связанных с именем С. Булгакова, друга сестер и духовного отца Аделаиды[50]. «Родина души корнями уходит в очень темную глубь, в очень злые страсти»[51]: эта фраза Евгении очень емкая, она включает в себя все то, что нами было сказано выше о «рождении» сестер Герцык в языческую духовность, совершившемся на киммерийской земле. Но судакский «Адин дом» (как его называли близкие) – свидетель отнюдь не только разлива «злых страстей» в событиях осени 1908 г., сгущения темных сил, приведенных сюда гостями – Ивановым со свитой: с домом связан и расцвет поэтического творчества Аделаиды, и литературные труды Евгении в начале 1920-х гг., и дружеские разговоры, и детский смех… И более того, дом этот – место сокровенного подвижничества сестер в страшное время Гражданской войны, когда Крым, согласно свидетельству И. Шмелева, сделался царством смерти («Солнце мертвых»). Именно тогда Аделаида пишет одно за другим лучшие свои стихотворения. В одной поэтической строфе ей удается охватить в целом все их тогдашнее судакское бытие:
Все строже дни. Безгласен и суров
Устав, что правим мы неутомимо
В обители своей, очам незримой,
Облекши дух в монашеский покров.
(Сонеты. 1; 1919)
Из декадентского салона, подражающего петербургской ивановской Башне, «Адин дом» превратился в монастырь. Опять-таки множество картин тех лет проходило перед внутренним взором шестидесятилетней Евгении, когда она писала одну из завершительных фраз главы «Судак»: «Родина души – не только сладость и отдохновение, но и всегдашний зов к подвигу»…[52]
Завершить размышления о Крыме как духовной родине сестер Герцык нам бы хотелось стихотворением А. Герцык 1918 г. «К Судаку». Оно писалось при вполне конкретных обстоятельствах: разразившаяся Гражданская война не позволила семье Герцык-Жуковских оставить Крым и вернуться в Москву; в сходном положении оказались многие – тот же Шмелев, С. Булгаков. Но Аделаида мифологизирует ситуацию: не разруха и боевые действия мешают ей уехать, но сама владычица Киммерии – Великая богиня, Мать-Земля ради своих неведомых целей удерживает ее при себе. Поэтесса заново воспроизводит в этом стихотворении волошинский «миф о Киммерии» и, привлекая новые образы, указывает на «закон» неповторимой киммерийской красоты.
Ах ты, знойная, холодная
Страна!
Не дано мне быть свободной
Никогда!
Пораскинулась пустыней
Среди гор.
Поразвесила свой синий
Ты шатер.
Тщетны дальние призывы —
Не дойти!
Всюду скаты и обрывы
На пути.
И все так же зной упорен —
Сушь да синь.
Под ногами цепкий терен —
Да полынь.
Как бежать, твой дух суровый
Умоля?
Полюбить твои оковы,
Мать-Земля!
Глубокая христианка к тому времени, «поэтесса-святая» (Б. Зайцев), уже в предчувствии конца своего жизненного пути она как бы с упреком обращается к «гению места» своей духовной отчизны. Стихотворение оказалось пророческим: в 1925 г. Аделаида Герцык умирает, едва достигнув пятидесятилетия, – она перенесла ужас чекистского застенка, голод детей, болезни и смерти близких – но жизненные силы иссякли. Могила ее не сохранилась: старое судакское кладбище, где она была похоронена, было уничтожено в 1982 г.[53]
* * *
Эту главу мы дополним небольшим экскурсом. Глубинная связь культуры Серебряного века (в частности, феномена сестер Герцык) с Крымом проясняется при обращении к интересному современному исследованию – книге культуролога Т. М. Фадеевой «Крым в сакральном пространстве». Богатое содержание книги (оно охватывает «сакральную географию» и «энергетику» крымской земли; крымскую топонимику; описание дохристианских и средневековых «святых мест» вместе с соответствующими мифами, легендами, житиями, а также разнообразную символику, значимую в крымском контексте) в аспекте религиоведения сводится, на наш взгляд, к теме крымского язычества[54]. Т. М. Фадеева идет от глубочайшей древности, – бросает взгляд даже на Атлантиду, мифическую прародину всей европейской цивилизации. Однако центр тяжести ее концепции – это мегалитическая культура и религия тавров, коренных обитателей Крыма (I тыс. до Р. X.). Поскольку Крым всегда был колонией, в крымском язычестве причудливым – но при этом отнюдь не случайным! – образом переплетались верования и культы коренного населения и народов-пришельцев – кельтов, славян, а прежде всего греков. Опираясь на труды античных и средневековых историков, привлекая свидетельства самых разнообразных памятников культуры, Т. М. Фадеева приходит к выводу о том, что верховным божеством на крымской земле всегда было божество женское. В ходе истории особо чтимая таврами богиня Дева, культ которой сопровождался человеческими жертвоприношениями, получала смягчающие «прививки» от греческой Артемиды или ее двойника – жрицы Ифигении. Под разными именами и мифологическими масками на протяжении веков здесь выступала Великая богиня всей Евразии – общая Мать богов и людей. Добавим от себя: не кто иной, как она открывала свой «лик» и навстречу религиозным опытам Волошина (который не раз упоминается Фадеевой); именно о ней вслед за Волошиным размышляли также сестры Герцык, называвшие ее либо Геей – в согласии с греками, либо по-русски – Матерью-Землей.
Свою концепцию крымского язычества Т. М. Фадеева отнюдь не склонна сужать до рамок сугубо академического исследования, адресованного компетенции одних филологов-классиков и медиевистов. Напротив, крымская духовность (используем здесь это не слишком определенное слово за неимением лучшего) в ее представлении – это феномен в высшей степени актуальный, более того, обращенный в будущее. Здесь Т. М. Фадеева, следуя одной из тенденций Серебряного века, опирается на идеи Р. Штейнера, который считал черноморский регион, и в частности Крым, весьма важной, с оккультной точки зрения, областью Земли. «Согласно учению Р. Штейнера, Черноморское пространство – это область мистерий, в которых вырабатывалось будущее Запада и обеспечивалась непрерывность культурного развития всего человечества, – пишет Т. М. Фадеева. – <…> В этом пространстве были основаны все важнейшие мистериальные центры первых трех послеатлантических периодов (этапы истории человеческой культуры по Штейнеру. – Н. Б.) и произошло становление четвертого (греко-латинского); здесь готовился пятый (западноевропейский) и готовится шестой (славянский. – Н. Б.) период»[55]. Центры эти – горный Кавказ (связанный с мифом о прикованном Прометее), кавказское побережье – Колхида (где было святилище Овна – Золотого руна), Синоп на черноморском юге, знаменитый почитанием там Сераписа (он же Озирис), – наконец, Крым на севере: здесь находилось «святилище таврической Артемиды, или богини-Девы, куда была перенесена Ифигения[56] (согласно греческому мифу, дошедшему до нас благодаря трагедии Еврипида “Ифигения в Тавриде”. – Н. Б.)». – Итак, по мысли Т. М. Фадеевой, присоединяющейся в этом к Р. Штейнеру, из черноморского пространства (для нашей темы важно, что из Крыма – с земли, «насыщенной “культурным перегноем”, по меткому выражению Р. Штейнера», или «духовным наследием предыдущих культур»[57]) в души людей, строителей культуры будущего, идут мощные обновляющие импульсы. И особенно это глубинное влияние касается славянства, поскольку именно славяне готовят ныне основу для грядущей великой культурной эпохи.
Как бы ни относиться к учению Р. Штейнера, основанная на этом учении идея Т. М. Фадеевой о «питательности» духовной почвы Крыма для исканий новейшего времени действительно «работает», если речь идет о культуре Серебряного века, к которой принадлежит и феномен сестер Герцык. Если придерживаться концепции, развитой в книге «Крым в сакральном пространстве», то оказывается, что Серебряный век получил от Крыма сильный импульс инспирации. Все построения Т. М. Фадеевой стягиваются к центральному тезису: Крым – это земля Божественной Софии. Но ведь именно София – девиз, символ, а если угодно – дух-покровитель русской культуры той эпохи. И отнюдь не таким уж странным покажется утверждение о том, что ее творцы обретали духовные силы именно на крымской земле, находили именно там собственно софийные смыслы: достаточно назвать Волошина, С. Булгакова, сестер Герцык и сестер Цветаевых, Андрея Белого, Н. Бердяева, И. Шмелева и т. д., в большей или меньшей степени связанных с Крымом.
Но почему правомерно рассматривать Крым в качестве удела Софии, – подобно тому как Афон считается уделом Богоматери? Т. М. Фадеева утверждает, в сущности, что таврическая Дева, затем греческие Артемида и Ифигения, чтимые в Крыму, суть те лики Софии, которые были явлены, каждый в свое время, древним крымским народам. То, что жители языческого Херсонеса считали Деву Тавриды покровительницей своего города, прообразовательно указывает на покровительство Софии всему Крыму. Между тем, оказавшись в настоящее время в районе Качикальона, можно разыскать там пещерную христианскую церковь Св. Софии: усилиями неведомых почитателей она имеет вполне пристойный облик охраняемого древнего памятника[58]. Очевидно, софийные храмы существовали и в других местах Крымского полуострова. – Для Т. М. Фадеевой, однако, решающим обоснованием ее тезиса служит сокровенное указание крымских топонимов (названий географических мест), которое проясняется, если привлечь на помощь символику чисел – пифагорейскую традицию. Софийность Крыма зашифрована в самом слове «Крым», дерзновенно утверждает исследовательница. В самом деле, это слово истолковывается как «страна сорока вершин, сорока замков, сорока крепостей»[59], поскольку корень его – тюркское «кырк», то есть «сорок». Корень «кырк» вообще часто встречается в крымских топонимах; Т. М. Фадеева полагает, что «число сорок устойчиво связано с Таврикой» (с. 232). И ради прояснения смысла этого числа она обращается к пифагорейским представлениям. Согласно этой древней традиции, сорок – число сакральное: «Сорок – это образ Универсума, существующий предвечно как женственное начало. Число символизирует Божественный замысел о мироздании, по “образу и подобию” которого ваялась материальная, проявленная Вселенная. Сорок – сокровенное гисло Софии (курсив мой. – Н. Б.), женского божества, Лунной богини. Лунная богиня Дева, царица “страны сорока вершин”, сорока святилищ…» (с. 229) В результате, согласно концепции Т. М. Фадеевой, «те, кто готовит на Востоке Европы шестую культурно-историческую эпоху», получают (и уже получили в ходе Серебряного века) инспирирующий импульс от Софии – Премудрости Библии и древних гностиков, средневековых мистиков и русских масонов Александровской эпохи, – от «подруги вечной» Владимира Соловьева, от огненного ангела, запечатленного новгородской иконой, о которой вслед за Соловьевым писали Флоренский и С. Булгаков.
Однако здесь может возникнуть закономерный – и, надо сказать, непростой вопрос: кто же такая София – языческое ли божество («Лунная богиня», Гея, Мать-Земля и т. п.) или же духовное существо, чтимое древними иудеями и признаваемое христианами? Софиология – всплеск ли это неоязычества в новейшее время или завершающий этап, некий новый синтез складывавшейся на протяжении двадцати веков системы христианского богословия? Думается, что софиология в самой своей основе двойственна: она заключает в себе представления и интенции религии природы, с одной стороны, но с другой – изначально связана с монотеизмом и христианством. Эта двойственность обусловлена метафизикой самой Софии – границы между Творцом и творением. Остережемся углубляться здесь в этот клубок проблем – в дебри софиологической диалектики, в тайны многообразного «софийного» духовного опыта. Ограничив себя русской софиологией Серебряного века, можно с уверенностью говорить о ее христианском ядре. Не случайно колыбелью русской софиологии сделалась Троице-Сергиева лавра, глубокий и многогранный феномен которой своим истоком имеет опыт преподобного Сергия Радонежского: именно с лаврой были связаны отцы нашей софиологии – Соловьев, Флоренский, Булгаков[60]. Но и языческие оттенки в концепциях и личностных установках русских софиологов подметить нетрудно. Все они были знатоками учений древних и средневековых гностиков, Каббалы, некоторых направлений в новейшем оккультизме; неудивительно, что у Соловьева и Флоренского мы находим немало языческих интуиций[61]. А такие близкие к софиологии фигуры, как Волошин и Андрей Белый, сознательно избравшие для себя оккультный путь, в категориях религиоведения – адепты своеобразного приватного неоязычества. Исследование Т. М. Фадеевой еще и потому весьма ценно, что указывает на языческую колыбель русской софиологии – на Крым как «страну Софии». Во время своего пребывания на крымской земле, в ходе культурологических штудий и медитаций на природе Волошин, Булгаков, Белый погружались в атмосферу древнего тамошнего язычества.
То, что сказано нами о софиологии, правомерно перенести на всю культуру Серебряного века, в которой причудливо переплетаются христианские и языческие тенденции. – Но что же учит классическое христианство о самой Софии? Вправе ли христианин искать, чтить Софию, или же она – действительно богиня Луны или Земли, мать языческих богов и в качестве таковой не подлежит «воскрешению»? Ответить на эти вопросы может помочь трактат св. Иринея Лионского «Против ересей», в котором излагается древнейший гностический миф о Софии. Высочайшее духовное существо, некий эон, София в своей гордыне отпала от Бога Творца, но раскаялась и стремится вернуться к Нему вновь: таков в двух словах этот гностический сюжет. Лик Софии в свете этих представлений двоится: гностики и учили о двух Софиях – Небесной и падшей. И если христиане, опирающиеся на библейские книги Премудрости, искали Небесную, Божественную Софию, то язычники, имевшие дело с непросветленным аспектом природы, надо думать, нередко подпадали соблазнам Софии падшей: право же, в кровожадной таврической Деве – немного от Софии Урании…
В софиологии вообще всегда заключен риск, опасность духовной подмены даже и при благих намерениях: расхожий пример тому – отпочкование Незнакомки от Прекрасной Дамы в сознании Блока. Также можно говорить о присутствии двух Софий в опыте и творчестве Соловьева (в его земной судьбе они воплотились в личностях Софии Хитрово и Софии Мартыновой). Но риск этот, надо думать, в плане эволюции культуры оказывается оправданным, чему свидетельство – открытия Серебряного века, обнаружение скрытых потенций самого христианства, обретение им перспектив развития.
Эту христианско-языческую двойственность Софии, а также опасность, сопутствующую софийной духовности, отчетливо чувствовал С. Булгаков, в чьей творческой судьбе страстная увлеченность образом Премудрости абсолютно органично сочеталась с подлинно христианским – традиционным подвижническим опытом (см. отразивший этот опыт его «Дневник духовный», писавшийся в Праге в 1924–1925 гг.). Будучи женат на крымчанке Елене Токмаковой, Булгаков подолгу жил в имении родителей жены в Кореизе. Он прекрасно знал Крым и его историю, считал крымскую землю (как и сестры Герцык) своей второй (после Орловщины) родиной. О значении Крыма для философского и богословского творчества Булгакова подробно говорится в нашей уже упомянутой статье «С. Булгаков в Крыму» (см. сн. на с. 37). Именно на «земле Святой Софии» он «пережил <…> ряд мистических потрясений (о них он сообщает в письмах и крымских дневниках. – Н. Б.), ставших тем “посвящением”, из которого родилась его поздняя софиология (две богословские трилогии) и которое поддерживало его в борьбе за Вселенскую Церковь»[62]. А в связи с проблематизацией нами пребывания на «земле Святой Софии» сестер Герцык можно вспомнить написанные Булгаковым в Ялте в 1922 г. диалоги «У стен Херсониса», персонажи которых (Беженец, Светский богослов, Ученый иеромонах, Приходской священник), олицетворяющие меняющиеся установки самого автора, рассуждают о Вселенской Церкви, земном образе Небесной Софии. Тексту диалогов предпосылается описание места их действия: «Лунная ночь в Крыму, у Черного моря, близ херсонисских раскопок, в виду Херсонисского монастыря. Вдали очертания мыса Фиолента, по преданию – места жертвенника Артемиды»[63]. Здесь все детали, природные и культурные, указывают на Софию: Луна – это природный аналог таврической Девы, вместе с Артемидой выступавшей в роли языческого двойника библейской Премудрости; затем море, по мысли Булгакова, имеющее софийную природу и символизирующее как раз падшую Софию-Ахамот[64]; Херсонис был городом Девы, а на мысу Фиолент предположительно находилось святилище крымской богини. Булгаков прекрасно отдает себе отчет в языческих обертонах, сопутствующих идее Софии; вместе с тем в его описании крымского пейзажа они как бы снимаются картиной монастыря. В сущности, Булгаков здесь представляет in nuce как бы всю историю крещения св. князя Владимира, – а вместе с тем судьбу русского духа, возвысившегося от кровавого язычества до монашеской святости. Таков и путь Софии: существо духовного мира, она имеет свою неведомую нам «судьбу»; однако для нас очевидно, что образ ее в ходе культурной истории очищается и возвышается от хищного идола дикого племени до Ангела Вселенской Церкви. Кажется, здесь мы не расходимся с тем, что хочет сказать о Софии в своей книге и Т. М. Фадеева.
Обратившись вновь к этому примечательному труду, извлечем из него «сакрально-пространственные» сведения о тех местах Крыма, где довелось жить сестрам Герцык, – это Севастополь и Судак. Из содержания книги прямо-таки следует, что невидимая рука направляла сестер к самым значимым священным центрам древности! – Начнем с Севастополя. Конечно, говорить здесь следует не о позднейшем городе «русского Крыма», а о расположенных неподалеку центрах поселения древнейших народов, – прежде всего о Херсонесе (ныне это район Севастополя). С Херсонесом связана память о храме таврической Девы – главного божества тавров, аборигенов Крыма. Дева считалась покровительницей города (девственность знаменовала его неприступность для завоевателей), а в III в. до Р. X. она была провозглашена царицей Херсонеса. В самом городе находились святилище и статуя Девы, представляющая ее как богиню плодородия. Но совсем неподалеку имелся и другой центр ее почитания, – его-то и упоминает Булгаков в вышеприведенной выдержке. Еще древние авторы – Геродот, Страбон – указывали на то, что храм Девы таврической находится на утесе, выступающем в море: тело принесенного в жертву человека отсюда сбрасывали вниз. В связи с храмом называют мыс Парфенион, и исследователи нового времени предполагают, что речь у древних шла о Фиоленте. Так, французский путешественник начала XIX в. писал о скале близ монастыря св. Георгия: «Вне всякого сомнения, ни одно место на Гераклейском полуострове не подходит культу таврической богини более, нежели это: только здесь можно причалить к берегу; только здесь жестокие тавры могли спешить на помощь терпящим бедствие, чтобы затем принести их в жертву. И каким театром является сама скала, на вершине которой народ, собравшийся на соседних скалах как на ступенях амфитеатра (намек на догреческое трагическое действо – реальное жертвоприношение. – Н. Б.), мог наблюдать за жертвоприношением и падением тел в пропасть!»[65] А в «Письмах с Понта» Овидия имеется описание сохранявшегося вплоть до I в. по Р. X. храма Девы – уже эллинизированной Артемиды-Дианы таврической. Поэт вкладывает его в уста старого тавра: «Есть в Скифии местность, которую предки называли Тавридою. Я родился в этой стране и не стыжусь своей родины; мое племя чтит родственную Фебу богиню. Еще и ныне стоит храм, опирающийся на огромные колонны; к нему ведут сорок ступеней. Предание гласит, что там был ниспосланный с неба кумир; не сомневайся, еще и ныне там стоит подножие, лишенное статуи богини; алтарь, который был сделан из белого камня, изменил цвет и ныне красен, будучи окрашен пролитой кровью. Священнодействие совершала жрица»[66]. Описание храма Девы включено старым тавром в изложение мифа об Ифигении – девственной жрице Артемиды, вынужденной в этом «варварском краю» совершать кровавый «варварский обряд». Именно такой виделась Таврида римскому взгляду – географическими местами, «которых нету жесточе»[67]. Не походили ли эти священнодействия древнего Херсонеса на те «языческие» обряды, которые, играя, выдумывали маленькие Адя и Женя Герцык? Не привела ли их сюда, в самое средоточие почитания Девы тавров, глухая память-судьба, о которой с таким реализмом они рассказывают в своих мемуарах о детстве? Сестры Герцык были беспощадны к себе, когда обращались к тайникам своего бессознательного, этой кладовой языческих импульсов и мотивов. Их духовное рождение на крымской земле означало в плане внутренней жизни не столько актуализацию этого душевного пласта (прорыв «злых страстей», о которых писала Евгения), сколько постепенное осознание и просветление, – христианизацию его содержания.
Однако на Евгению и Аделаиду подспудное влияние оказал не столько Херсонес, сколько Судак – место, судьбоносное для них. Именно с Судаком связаны мифологические смыслы и сюжеты, удивительным образом проявившиеся а биографиях и творчестве сестер. Что же сообщает о Судаке в своей книге Т. М. Фадеева? Название это (его исторические модификации – Сугдея, Солдайя, Сурож), возведенное к санскритскому корню «сур», означает «Солнечный город». Но так именовались в древности сакральные центры, – и, по мнению Т. М. Фадеевой, Сурож находился в преемственной связи с некоей сакральной традицией, а именно – традицией женской инициации.
Обоснованию этой антропософской по своей природе мысли Т. М. Фадеева посвящает два последних раздела книги «Крым в сакральном пространстве». Опираясь отчасти на древних историков, автор ее создает миф о Судаке как центре женского посвящения. Вот этот миф. Примерно в IV в. до Р. X. большую роль в жизни народов Крыма стали играть амазонки. Обитавшие на Дону воинственные «женоуправляемые» племена, у которых девушки обучались военному делу и участвовали в сражениях наряду с мужчинами, двинулись на Крым и захватили город Афинеон, находившийся в окрестностях Судака. «Не хранится ли память об этом и других походах и об основанном амазонками святилище в названии Кыз-куле – Девичья башня, руины которой и сегодня увенчивают вершину Судакской крепости?» – предполагает Т. М. Фадеева[68]. Башня эта, назначение которой – сторожевой дозор, по мнению исследовательницы, была выстроена генуэзцами (XIV в.) на месте архаичного святилища амазонок, где также почиталась Дева. Функцией богини плодородия ее «характер» не исчерпывался: ее херсонесские изображения на монетах отвечают образу Девы-воительницы, что и не слишком удивительно, если вспомнить, что она была мифологической защитницей и правительницей Херсонеса. Очевидно, что в еще большей степени воинственное начало должно было быть присуще божеству амазонок. В Средние века им преемственно наследовали вооруженные отряды фольклорной воительницы Царь-Девицы, чьим местопребыванием был также древний Судак: «Дворец Царь-Девицы, “строенный готфским обычаем, к южной стороне города, на высоком холму, омываемом волнами моря”, окончательно указывает адрес – это Крым, Сурож»[69]. Вновь судакская Девичья башня оказывается связанной с феноменом воинственной царственной девы.
Надо сказать, что женский образ с подобными чертами весьма импонировал сестрам Герцык, не привыкшим пасовать перед мужским началом, чувствовавшим себя на равных в области высокой культуры с лучшими умами своего времени. Примечательно, что их самосознание как женщин нового типа раскрывалось именно через образ «Девичьей башни». Стихотворение А. Герцык «В башне» (1900-е гг.) отнюдь не проходное для ее творчества. Отдельные образы этого стихотворения можно обнаружить в ряде других ее произведений, вплоть до цитированного нами ранее сонета 1919 г. («Все строже дни…»): «незримая обитель» здесь – не что иное, как та же, христианизированная и перенесенная на духовный план, «Девичья башня».







