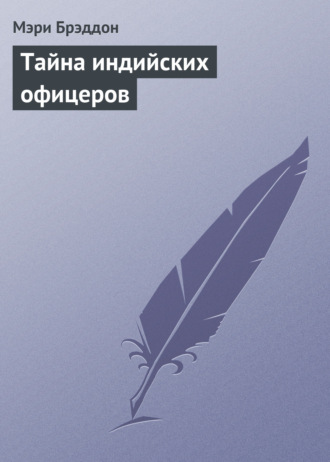
Мэри Элизабет Брэддон
Тайна индийских офицеров
XXX. Рассказ викария
– Все знают, – начал Реморден, сев спиной к окну, так что лицо его осталось в тени, – как нелегко живется человеку, ставшему игрушкой безнадежной любви, и в особенности обманутому любимой им женщиной. Как бы то ни было, но я должен признаться вам, что и сам нахожусь в числе людей, обманутых таким плачевным образом.
Бланш вздрогнула, но ни она, ни Ричард не сказали ни слова.
– Раньше я никогда не говорил об этом, – продолжал Вальтер Реморден. – Я покорно нес свой крест, стараясь добросовестно исполнять долг; но когда я увидел этого бедного молодого человека, оплакивающего свою надежду и свои разбитые мечты, я подумал, что утешу его, если расскажу, как были уничтожены и мои надежды, оставив мне после себя одно только отчаяние.
Бланш пристально смотрела на лицо Ремордена, а голова Ричарда все ниже склонялась к конторке, за которой он обычно писал.
– Несколько лет назад, – продолжал Реморден, – я влюбился в девушку, которую считал верхом совершенства; теперь я знаю, что и она была не чужда недостатков. Помню ее высокомерие и презрение, с которым она отзывалась о слабостях других, ее честолюбивые мечты, которые более подошли бы предприимчивому мужчине. Но помимо этого она обладала таким благородным и смелым сердцем, таким ясным умом, отвергавшим все низкое и грязное, что я и теперь считаю ее выше большинства женщин. Только Богу известно, как я ее любил! Я знал, что и она любит меня; в особенности ясно она выказала глубину своей любви за несколько недель до венчания с другим!
– Она любила вас и вышла за другого?! – воскликнула Бланш.
– Да. Мы были друзьями почти с самого детства; ее отец был чрезвычайно расположен ко мне, и под его кровлей я провел все счастливые минуты моей жизни. Ей едва исполнилось семнадцать, когда мне пришлось на время уехать из пастората; мы расстались без клятв, но между нами было заранее условлено, что по моему возвращению мы обвенчаемся; я верил в ее честность, я был так убежден в искренности ее любви, что мне положительно не могла прийти в голову мысль связать ее клятвенным обещанием. Разве я мог подумать, что она может разбить мое сердце? Я смотрел на нее, как на свое второе «я»!
– И она обманула такое высокое доверие! – прошептала Бланш Гевард.
– Я отсутствовал три года, – продолжал викарий. – Мы не переписывались, потому что отец ее ничего не знал о нас; но я получал сведения о ней через людей, которые часто виделись с нею. В течение трехлетнего отсутствия я чувствовал себя совершенно счастливым. Я верил ей и считал свою женитьбу на ней едва ли не свершившимся фактом. Быть может, Богу было угодно наказать меня за то, что я осмелился создать себе кумира из земного создания! Моя любовь была, быть может, тяжким грехом. Я был страшно наказан!
Вальтер остановился, как будто потеряв силы под тяжестью этих воспоминаний. Никто не прерывал его; переборов себя, Реморден продолжал:
– Я работал неутомимо – не столько из чувства долга, сколько и из желания удостоиться повышения и угодить ей; я постоянно ходил пешком, не желая расходовать небольшие сбережения на экипаж и лошадь и думая о том, как лучше обставить дом к блаженному дню предстоящего брака. Я не выдержал этого тяжелого труда и заболел от истощения сил. Во время моей долгой, мучительной болезни, когда я, унылый и печальный, лежал у честного крестьянина, заботливо ухаживавшего за мной, я случайно узнал, что она обручилась с богатым человеком, имение которого граничило с домом ее отца.
Голос викария прервался от волнения. Бланш подошла к нему и протянула ему свою бледную руку.
– Вы сочувствуете моему положению, Бланш, – кротко сказал викарий. – Я знаю, что вы простили мне мой грустный вид, мою необщительность, мое равнодушие к молодым девушкам, даже достойным любви и уважения! Удар был слишком страшен, и он ошеломил меня; когда я опомнился, то начал сомневаться в достоверности слухов, спрашивая себя: «Может ли быть, чтобы женщина, так горячо любимая мною, решилась променять мою любовь на золото?»
– Но у нее нет сердца! – воскликнула мисс Гевард.
– Остановитесь, Бланш! Не судите ее. Мне больно это слышать! Господь знает, что я давно простил ее, бедную, добровольно разбившую свою светлую молодость! Как только я оправился и встал, мною овладело нетерпение; я чувствовал, что должен во что бы то ни стало сам удостовериться во всем. Жена ректора моей родной деревни приютила меня с большой радостью, больного, разбитого нравственно и физически, и я оказался в двух милях от той, с которой мечтал навечно соединиться неразрывными узами!
– Вы видели ее? – спросила его Бланш.
– Да, один раз. Но короткого свидания было вполне достаточно, чтобы убедить меня, что ее заставляет вступить в брак честолюбие… что чувства ее вовсе не изменились, но она не смогла побороть искушения. Бедняжка! Она выросла и жила в бедности, а что может быть хуже для девушки из знаменитого рода, гордой по природе, чем томления нищеты? В то время я, конечно, не сознавал еще этой печальной истины, я все понял позже… Я увидел тогда не только ее, но даже ее жениха.
– А он… – начала Бланш.
– О Бланш, не спрашивайте меня об этом человеке! Только при виде его я в полной мере почувствовал горечь ее измены. Чем больше я всматривался в это грубое, наглое, безмозглое создание, которому она отдавала себя, тем более ужасался. Это был очень знатный господин, но я сомневаюсь, чтобы во всех его поместьях и владениях есть хотя один человек с такой отвратительной и пошлой наружностью и с такими манерами, какими отличался этот богач!
– Но он все-таки джентльмен? – спросила мисс Гевард.
– По рождению – да; впрочем, в молодости он находился в исключительных обстоятельствах, которые могут послужить извинением его грубым манерам и полной неразвитости. Сердце мое обливалось кровью, когда я всматривался в него, понимая, что счастье любимой женщины зависит от такого жалкого существа; с этих пор я не слышал о ней ничего и избегал упоминать о ней в моих письмах к знакомым, да и те, кто знал о моих чувствах или, по крайней мере, догадывался о них, не желали, очевидно, расстраивать меня. Господь ведает, что с нею сталось. Я не могу вспомнить о ней без жгучей боли, потому что лично я не доверил бы сэру Руперту Лислю даже собаку!
В течение всего рассказа Ремордена Ричард не поднимал головы от конторки, но при имени баронета он стремительно поднялся, бледный, как смерть.
– Сэр Руперт Лисль?! – сказал он. – Неужели вы такой же сумасшедший, как и я? Я не произносил и даже не слышал этого имени в течение долгих двенадцати лет.
– Что вы хотите сказать этим, Ричард? – спросила его Бланш.
– Я хочу сказать, что я был болен в детстве жестокой горячкой, которая отчасти расстроила мой рассудок… и что исходной точкой моего помешательства была глупая мысль, что я – сэр Руперт Лисль!
XXXI. В дороге
В один жаркий июльский день по тропинке в двадцати милях от Ливерпуля по направлению к Лондону шел какой-то человек. Блуза его была изорвана в клочья; толстые башмаки почти развалились, а войлочная шляпа перенесла, как видно, столько бурь и невзгод, что потеряла первоначальную форму. К палке его был привешен небольшой узелок – путешественник, должно быть, не раз подвергался разным превратностям судьбы. Если б не английские проклятия, то и дело слетавшие с его языка, вы бы могли принять его за уроженца Юга – до такой степени он загорел на солнце. Хотя вокруг него не было ни души, он шел, стараясь держаться поближе к плетням, как будто опасался встретиться лицом к лицу с каким-нибудь беспощадным врагом. Физиономия путника была не из числа приятных, и если бы он вдруг очутился перед вами в какой-нибудь пустынной местности, то вы, вероятно, имели бы основания опасаться за часы и цепочку, если не за себя самое! Даже дорога, выбранная этим странным субъектом, не внушала доверия, поскольку она была очень удобна для разбойничьих засад. В конце дороги находился пригорок с громадным дубом, на котором в доброе старое время был повешен не один злодей, продолжавший и после смерти наводить на окрестности такой же ужас, какой он наводил во время своей жизни; пригорок и поныне сохранил свое мрачное название «Жиббет-Гилль» («Косогор виселиц»).
Возле этого-то холма утомленный путник и бросился на землю, не переставая произносить проклятия, которые нарушали однообразие его одинокого пути. Вытащив из узла обглоданную кость, несколько кусков хлеба и складной ноле огромного размера, он принялся закусывать. Когда кость была очищена так тщательно, что самая голодная и жадная собака не позарилась бы на нее, он спрятал нож в карман, лег на спину и начал набивать закоптелую трубку, вытащив ее из-за ленты измятой шляпы.
– Остается пройти еще две сотни миль, – пробормотал он хриплым неприятным голосом, – я устал и голоден, мои ноги изранены, а в кармане осталось не более трех шиллингов. В таком положении нелегко, разумеется, пройти две сотни миль.
Полился бесконечный поток грубых ругательств; потом усталый путник закурил свою трубку и принялся сердито пускать клубы дыма, как будто злился на табак и старался скорее с ним покончить. Он выкурил трубку в несколько затяжек, а так как не большой запас благодатного зелья принуждал его к экономии, снова засунул трубку за ленту, и решил поспать, но через некоторое время был разбужен лаем. Открыв глаза, он проворчал одно из ругательств, приподнялся и увидел над собой пса, а рядом с ним – огромного роста цыгана, который сидел верхом на здоровенном осле, пристально всматриваясь в лицо спящего странника.
– Эй, товарищ! – крикнул цыган. – Позавидуешь вам, как вы славно храпите.
– Отзовите свою проклятую собаку! – взревел неожиданно разбуженный путник. – Или я раскрою ей башку.
Однако он был настолько утомлен, что гнев истощил последнюю его силу, и он снова повалился на густую траву, не в состоянии прибить даже собаку.
– Ваше пробуждение было чертовски неприятно, товарищ, – продолжал цыган, стуча ногами по бокам осла. – Вы, вероятно, устали от дороги.
– Да, я устал и зол, – ответил незнакомец. – Зачем вы разбудили меня? Я не спал целых четырнадцать часов! Я чувствую себя совершенно здоровым, когда я крепко сплю, потому что вижу очень приятные сны!
– Вам снится, что вы кушаете? – спросил цыган с усмешкой.
– О нет, – проворчал путник, – мне снится кое-что попривлекательнее, хотя и еда имеет для меня свою прелесть, между тем я недавно ел такую говядину, какую ни один джентльмен не даст своей собаке… Да, мне снится кое-что поприятнее еды, питья, денег, любви, даже приятнее жизни – мне снится, что я мщу заклятому и страшному врагу.
Он увлекся настолько, что приподнялся и с силой ударил своей палкой о землю.
– О черт! – воскликнул цыган. – Вы страшный человек, и я бы не желал оскорбить вас.
– Я советую всем, оскорбившим меня, бояться моей мести! – сказал угрюмый путник.
– У вас весьма болезненный и изнуренный вид, – заметил цыган, глядя ему в лицо.
– Да, я болен, – ответил он сурово. – Но я могу хворать вдвое сильнее, и все же я буду упорно идти к своей цели. У меня в дороге открылась лихорадка, которая целые сутки продержала меня на куче тряпья, да еще в таком месте, где, кажется, и собака не захотела бы лечь, и все-таки я упорно иду к цели. Я страдал ревматизмом, так что стал чистым скелетом, а все-таки, как видите, я иду к цели!.. И пусть я стану хромым и навеки ослепну, если я не дойду теперь, когда цель так близко от меня!
При последних словах его голос осекся, и он сильно закашлялся.
– Замечу вам, товарищ, что вы чересчур слабы, чтобы продолжать путь, – проговорил цыган. – Наши тут, поблизости, и смею уверить вас, они с удовольствием дадут вам приют на ночь, если я попрошу их об этом и если вы будете держать свой язык за зубами.
Бродяга нехотя принял предложение цыгана, и тот помог ему усесться на осла.
– Вы не можете идти, – сказал он, – между тем я достаточно силен и рад пройтись.
Цыганский табор находился за поворотом дороги, в миле от Жиббет-Гилля. Это было славное тенистое местечко, окруженное ольхой и осинами; посредине виднелось небольшое озеро, на берегу которого красовалась группа буков. На траве под кустами лежали двое или трое мужчин, лениво покуривали и плели рогожи; под навесом дремала свора собак, а на скамейке какая-то женщина чистила картофель. Другая, помоложе и покрасивее, спала на земле, положив под голову поношенный платок. Все, за исключением спящей, подняли головы при появлении цыгана и угрюмого всадника.
– Эй, Абрагам, кого это ты притащил? – спросил один из мужчин.
– Человека, которого я нашел у Жиббет-Гилля. Вы сделаете доброе дело, если накормите его и дадите ему ночлег.
– Мы сами не утопаем в роскоши, но живем по принципу: чем богаты, тем и рады… Не будите Британию! Бедняжка заснула, а это случается с ней нечасто.
Бродяга удивился, услышав, с каким чувством говорят о спавшей. Она была красива, но на лице ее лежала беспредельная грусть, бледные губы были судорожно сжаты, а под глазами ясно обозначились синие круги и морщины.
– Вы можете немножко помочь нам, пока поспеет суп, – сказал один из цыган, обращаясь к незнакомцу. – Кстати, как вас зовут?
Путник переминался с миной человека, не знающего, как ответить на этот вопрос.
– Джон Андреус, – ответил он сверх ожидания вежливо.
– Джон Андреус… Хорошо… А чем же вы живете, господин Андреус?
– То тем, то другим, я ничего не делал последние три месяца… Я умираю скорее от голода, а не от работы, но все же я приближаюсь к своей цели.
Он сказал это больше для одного себя, и его тусклые глаза засверкали диким огнем, как будто в его груди сидел злобный гений, подталкивавший его и дававший ему силу одолеть все преграды. Он сел и начал плести рогожи, пальцы его действовали крайне неловко, но он старался поскорее освоиться с непривычной работой. Через некоторое время женщина, чистившая картофель, сняла с огня, пылавшего вблизи навеса, котел с вкусной похлебкой, вынула из кошелки глиняный кувшин с пивом и объявила, что ужин готов.
Лицо Джона Андреуса прояснилось, когда он почувствовал приятный запах супа. Молодая женщина, спавшая весь вечер, проснулась при стуке ложек о миски.
– Британия, – сказал тот, которого цыгане называли Абрагамом, – подойди сюда, дочь моя; ты хорошо спала и теперь можешь покушать.
– Мне не хочется есть, – ответила она с заметным усилием. – Вы так добры ко мне… но я не хочу есть, я только хочу снова идти туда…
Сверкающими глазами она указала на пылавший небосклон; ее тонкие губы были судорожно сжаты и бесцветны, как и прежде, во время сна.
– Я хочу сойти вниз, – повторила она.
Цыгане переглянулись: как ни туманны были слова молодой женщины, они хорошо поняли их значение. Она с усилием съела кусочек хлеба, между тем как мужчины отдавали предпочтение похлебке, а Джон уплетал все, что попадало под руку.
– Ну, товарищ, – спросил его самый старый цыган, закуривая трубку, – какие у вас планы на завтрашнее утро?
– Продолжать свой путь, – ответил Джон Андреус.
– Пешком?
– Ну да, пешком.
– Не хотите ли идти вместе с нами? Вы можете быть нам полезным тем или иным образом… Я не думаю, чтобы у вас были какие-то занятия или труды.
– Нет, Боже ты мой, нет! – проговорил Андреус с печальной гримасой.
– Так почему бы вам не остаться с нами?
– Только потому, что для меня существует лишь одна дорога, по которой вы, вероятно, не захотите идти.
– Почему бы и нет? – сказал цыган, подумав. – Мы едем тихо, а если спешим двинуться в путь, то единственно для того, чтобы исполнить желание этой несчастной девушки, которая стремится скорее попасть куда-то по ту сторону Лондона.
– И я тоже иду туда, – заметил Джон Андреус.
– Мы отправляемся в Суссекс, на Чильтонские скачки; мы были там во время прошлого листопада, но случилось несчастье, омрачившее мозг этой бедной девушки.
– В какой части Суссекса? – перебил Джон Андреус с нетерпеливым жестом. – Бог с нею, с этой девушкой!.. В какой части Суссекса это было?
– В Чильтонской долине, недалеко от Чичестера.
Стало уже темно, так что говорившие видели друг друга лишь при свете спичек, которыми они раскуривали трубки. Джон Андреус хранил глубокое молчание, а потом тихо сказал:
– Решено: я остаюсь с вами!
Все обменялись с ним крепкими рукопожатиями, цыгане – дружелюбно и искренне, Джон Андреус – недоверчиво и робко, как будто завладевший его душою демон запрещал ему всякое сближение с людьми.
Потом его внезапно озарила какая-то мысль, и он спросил:
– Зачем ваша молодая спутница идет в Чильтонскую долину?
– Чтобы посетить могилу своей родной сестры, – ответил Абрагам.
Молодая девушка услышала эти слова, хотя и не прислушивалась к общему разговору.
– Она была прелестной девушкой, – прошептала она. – Ей не было еще и восемнадцати… это было доброе, кроткое существо; Сюзанна! Моя бедная дорогая сестра!
Последние слова сменились глухим, болезненным рыданием.
– Почему она так горюет о сестре? – тихо спросил Андреус.
– Это длинная история, товарищ, – ответил Абрагам, – но я, может быть, когда-нибудь расскажу ее вам. Это драма, о которой не следует говорить с чужими.
Молодая женщина окинула присутствующих гневным взором и сказала с вызовом:
– Ее можно рассказать хоть целому свету!.. Эту низкую, грязную, ужасную историю! Ее можно рассказывать и под открытым небом! Но вы ведь доведете меня? – добавила она умоляющим тоном. – Вы клялись, Абрагам, что сделаете это!
– Я сдержу свое слово и доведу тебя, дитя.
– И поставите меня с ним лицом к лицу? Не так ли?
– Ну да, лицом к лицу.
– Да наградит вас Господь за вашу доброту! – ответила она.
И, снова дав волю горю, девушка с рыданием повалилась на траву.
– Она, как мне кажется, немного того? – спросил Джон Андреус, указывая на лоб.
– Да, это почти что так, – ответил Абрагам. – У нее такое горе, которое могло бы свести с ума даже самого разумного человека. Бедняжка!.. Я хочу жениться на ней, и мне тяжело видеть ее в подобном состоянии.
Мужчины разделили между собой пиво, и когда на небе загорелись звезды, стали болтливее и откровеннее друг с другом. Джон Андреус, казалось, забыл о своем демоне и тоже оживился, по примеру прочих. Время от времени он прерывал беседу, чтобы повторить цыганам:
– Я остаюсь, друзья мои, да, я остаюсь с вами!
XXXII. Почему цыгане сильно недолювбливали сэра Руперта Лисля
Долина, в которой устраивают Чильтонские бега, находится в трех милях от города. Это место сбора всех бродяг и цыган, но обычно его посещают очень редко, разве только какой-нибудь фермер, возвращаясь с рынка, свернет в сторону, чтобы сократить путь, и проедет вблизи от косогора, на вершине которого возвышается обмазанный известкой шалаш, которому простодушные поселяне дали название «Большая Биржа».
Скачки бывают в начале августа. Со второго числа начинают заполняться приезжими разные шалаши и палатки, такие низкие, что в них можно лишь лежать, но никак не стоять, для чего в них навалены целые груды папоротника и других растений; лошади и ослы бродят вокруг них, ощипывая жесткую и сухую траву. Первыми посетителями, прибывшими на место, были цыгане, приютившие в своем таборе Джона Андреуса. Они приехали ночью, выбрали самый отдаленный шалаш и выказали свое присутствие лишь легкой струйкой дыма, поднимавшегося над костром.
– У нас здесь немало друзей, – сказал Абрагам, когда все по возможности удобнее расположились в шалаше, – но мы в них не нуждаемся. Для этой бедной девушки будет лучше, если мы будем одни.
«Бедной девушкой» была Британия. Пару раз Джон Андреус попытался украдкой вступить с ней в разговор, но натолкнулся на стену безысходного горя, отделявшую ее от других людей, хотя чувствовалось, что Андреус не совсем ей безразличен. Она говорила с ним, хоть и односложно, отвечая лишь на заданные вопросы, но никогда не смотрела на него и никогда ее лицо не изменяло своего вечного выражения, не проявляло никаких чувств ни в присутствии друзей, ни в присутствии чужих. Когда ей предлагали пищу или питье, она ела, чтобы только не умереть. Спала она тоже только в тех случаях, когда истомленное тело ее настойчиво требовало спокойствия и отдыха, и ее легкий сон всегда был беспокоен и полон видений.
Прибыв на место скачек, Джон Андреус еще раз спросил о причине грусти Британии.
– Вы обещали рассказать мне об этом, когда познакомитесь со мной поближе, – сказал он Абрагаму. – Мы уже давно вместе, и я надеюсь, что вы сдержите слово.
– Я расскажу вам все, – ответил Абрагам. – Иногда мне и самому хочется рассказать об этой трагедии, а в другое время я нахожу, что разгласить ее – значит отомстить оскорбившему ее… Да, я расскажу вам все как есть, Андреус.
Собеседники курили, лежа на земле на некотором расстоянии от прочих товарищей. Абрагам встал и повел Андреуса по длинной аллее к какому-то забору, на который и сел, приглашая своего спутника поместиться рядом с ним. Джон так и сделал и начал закуривать трубку, готовясь внимательно выслушать историю цыгана.
– Британия замечательно красивая девушка, – начал Абрагам. – Она была еще лучше до ночи, ознаменовавшей себя ужасным происшествием, которое не забыто нами… Всевидящий Бог знает, что оно не забыто!.. Оно-то и прогнало с ее лица румянец, а из глаз – прежний блеск!.. Да, раньше она была настоящей красавицей!
– Я верю этому, – с нетерпением проговорил Андреус. – Продолжайте, пожалуйста!
– Она не похожа уже более на ту, которая потеряна для нас, – продолжал цыган с чувством, – не похожа настолько же, насколько не похожи полевые ромашки на чудные цветы, растущие в теплицах. В ней так же мало сходства с убитой сестрою, как между тем фонарем, горящим в отдалении, и звездою, сверкающей над нами… Бедняжка… мое бедное убитое дитя!
– Вы сказали: убитое? – переспросил Андреус.
– Видите ли, товарищ: есть убийцы, которые никогда не используют ножей или других смертоносных орудий и не попадают на скамью подсудимых… Есть убийцы не тела, а души: жертвой такого убийства и стала сестра Британии!
– Я не могу понять, куда вы клоните, – перебил Джон Андреус. – Мне хотелось бы, чтобы вы выражались яснее и не отходили от главного предмета.
– Я и хочу придерживаться сущности дела, но только при условии: не торопите меня… Есть слова поострее ножа или кинжала, каждый звук которых жжет губы… но я перехожу к изложению дела. Недалеко отсюда живет прекрасный джентльмен, если только богатство и роскошь могут сделать человека прекрасным. Как бы там ни было, но он один из самых всесильных людей этого графства. В прошлом году он присутствовал на бегах, правил четверкой, а в его экипаже сидела молодая и красивая дама. Он пил шампанское и держал пари на каждую лошадь, которая могла претендовать на приз.
Джон Андреус внимательно вслушивался в каждое слово цыгана, и когда тот замолк, чтобы перевести дыхание, сказал с нетерпением:
– Продолжайте, товарищ, продолжайте, прошу вас!
– Продолжаю, – угрюмо ответил Абрагам. – С нами в то время была Сусанна – единственная сестра Британии. Она подходила ко всем экипажам и выручила к вечеру довольно много денег. Его жена, как и прочие, подозвала ее к себе, дала ей золотой за ее ворожбу и долго говорила с нею ласково и дружелюбно. Он тоже обратил на нее внимание – но не открыто, как прочие, говорившие ей, что она восхитительна; нет, он поступал иначе: подошел к ней украдкой, и один из товарищей слышал, как он говорил ей вполголоса, что если она захочет, то он подарит ей великолепный дом и щегольской экипаж. Она отошла с негодованием, но он преследовал ее и в этот день, и после, так что она старалась держаться на глазах у его прекрасной спутницы, при которой он, конечно, не смел приставать к ней. По окончании бегов оказалось, что мы заработали больше, чем ожидали. У нас была одна общая касса, и сестры отдавали нам сполна свою выручку, превосходившую вдвое нашу общую; таким образом, мы могли спокойно отдохнуть два-три дня, чтобы подготовиться к далекому странствованию. Поверите ли, что в течение этих трех дней негодяй каждый вечер бродил вокруг палаток, пытаясь поговорить с Сусанной?
– И она ничего ему не ответила? – пробормотал Джон Андреус.
– Нет! – воскликнул цыган. – Да и что могла сказать ему бедняжка? Другая, разумеется, была бы в восхищении, что за нею увивается молодой джентльмен, и не отказалась бы принять его подарки, какие ей и во сне не снились; не одна дочь фермера пустила бы тотчас в ход все женское кокетство, чтобы только удержать его возле себя, гордилась бы им перед своими подругами, кичилась бы своим влиянием на него и в конце концов осталась бы ни при чем. Но цыганки честнее, чем о них думают! Бедная девушка!.. Я как сейчас вижу, как она вбежала к нам после свидания с ним. Глаза ее горели, лицо было бледным, а зубы стучали от волнения. «Я уверена, что мы больше не увидим его, – заявила она. – Он едва ли решится прийти после того, что я ему сказала!». О, если б он и правда больше не пришел, она и теперь была бы с нами! Мы, все без исключения, остались в дураках, потому что поверили, что он больше не покажется нам на глаза, убедившись в своей полнейшей неудаче!
– Вы, конечно, ошиблись?
– Да, мы страшно ошиблись! – ответил Абрагам, сжимая кулаки. – Мы не знали, на что способен негодяй без сердца и без чести! Накануне отъезда Сусанна попросила дать ей несколько шиллингов из общей кассы, чтобы купить себе ленты. Мы не могли отказать ее просьбе, так как ее выручка была больше нашей. Она взяла около пяти шиллингов и в три часа пополудни ушла в Чильтон. Британия и я обещали выйти ей навстречу. Бог весть, почему нам пришла эта мысль; я думаю, что так было предназначено. Стоял жестокий зной, и воздух был удушлив. Я заснул, но разбудила меня Британия, сказав с глубокой тревогой, что назначенный час уже давно прошел, а Сусанны все не видать. Сон отуманил меня, и я не обратил никакого внимания на слова Британии, только ответил, что сейчас же пойду вместе с нею, и мы встретим Сусанну. Вам знакома дорога отсюда до Чильтона, и мне незачем говорить, что по ней мало ходят, а с одной стороны ее тянется ров. Наступала ночь, когда мы с Британией вышли из шалаша. Не встретив Сусанны, мы дошли до Чильтона, где нам тотчас сказали, что она давно сделала все нужные покупки и три часа назад спокойно отправилась по дороге в наш табор. Видите ли, товарищ, когда вас ждет тяжелое несчастье, все чувства и нервы у вас напряжены до предела, и в такие минуты достаточно толчка, чтобы открылась истина. Я сейчас же смекнул, что с девушкой случилось что-то нехорошее. Я не говорил Британии ни слова, да и она молчала, но я отлично видел, что она беспокоится не меньше меня и что сердце ее предчувствует беду. Совсем стемнело, и я на всякий случай потребовал фонарь, хотя мы и без него дошли бы до табора. Британия поняла, зачем я взял фонарь. Когда мы вышли из города, я замедлил шаги, чтобы поговорить с нею. Она шла со мною рядом, но была молчалива и бледна, как мертвец. «Британия, – сказал я – пойдем вдоль рва! Сусанна могла сильно устать и прилечь где-нибудь». Я почти задыхался от сильного волнения, тяжелые предчувствия теснились в моей душе, и в довершение всего я знал, что Британия разделяет эти мысли и чувства, хотя и не высказывает мне своих опасений. Вы знаете, товарищ, что этот ров идет по одной стороне дороги, другая же граничит с равниной; я держал фонарь вровень с поверхностью воды, наполняющей ров, я вглядывался в нее с напряженными вниманием, а Британия смотрела через мое плечо.
– Что же было дальше? – спросил Андреус, когда цыган снова остановился.
– Дальше мы увидели то, чего ждали. Как раз на полдороге, в самом пустынном месте мы наши безжизненное тело Сусанны, лежавшее в воде. На траве возле рва были видны следы мужских и женских ног, а на дороге – следы лошадиных копыт. Трава была помята; это ясно указывало, что тут происходила жестокая борьба; поблизости валялся сломанный хлыст. Я сохранил этот сломанный хлыст, потому что на ручке его стояло его имя. Отчаяние Британии не имело границ; она хотела тотчас отправиться к злодею, хотя он жил довольно далеко, и перед всеми обвинить его в убийстве Сусанны. Но я убедил ее, что это бесполезно, и послал ее за одним из товарищей, чтобы донести покойницу до нашей палатки, где мы и положили ее на постель, как будто бы она умерла, окруженная своими близкими.
На другое утро я отправился к нему со сломанным хлыстом. Я встретил его гуляющим с одним из приятелей, который мне показался вдвое старше него. Когда я повел речь об этой страшной драме и показал хлыст, они расхохотались, а старший сказал вдобавок, что я придумал басню для того, чтобы выманить у них побольше денег. Перед моими глазами стоял труп несчастной Сусанны, и когда я услышал наглое утверждение, что я бесстыдный лжец и что я поднял хлыст там, где он был потерян, а именно на бегах, то я вышел из себя, бросился на младшего и чуть было не задушил его. Я не отпускал его, я был готов разорвать его на части; но сила была на их стороне. Меня потащили в магистрат, где обвинили в оскорблении джентльмена и посадили в Чильтонский острог… Но я еще встречусь с ним, и очень скоро, и заставлю его помнить меня до гроба!
– Вы не назвали имени этого джентльмена, – заметил Джон Андреус.
– О, ведь дело не в имени! – возразил Абрагам.
– Но я хочу знать его, – сказал бродяга каким-то странным тоном. – Если вы не хотите назвать его сами, то я сам назову этого человека.
– Вы?! – воскликнул цыган. – Как вы можете знать…
– Имя его – сэр Руперт Лисль, – перебил Андреус. – Он живет в замке Лисльвуд, миль за девять отсюда. Тот, которого вы видели с ним – полный, рослый мужчина в желтом жилете, с золотыми цепями, и усами, прикрывающими его проклятый рот – это Гранвиль Варней… Земля не создавала еще подобного злодея, – добавил Джон Андреус, голос которого повышался при каждом слове и наконец перешел в яростный крик.
– Будь он проклят! – воскликнул он, с угрожающим видом потрясая рукой.
– Объясните, товарищ, что все это значит! – спросил Абрагам, гнев которого был ничем в сравнении с бешенством, овладевшим Андреусом.
– Это значит, что с этой минуты мы с вами стали родными братьями, потому что у нас одна цель… Что касается того, – продолжал Джон Андреус как будто про себя, – если этот пес попадется мне под руку, хоть даже сегодня, я размозжу ему череп так же, как и тому. Богу известно, что я никогда не чувствовал к нему особенной любви. Пусть он не воображает, что во мне проявилось к нему сострадание!
Когда собеседники вернулись в палатку, Джон Андреус подошел прямо к Британии и поцеловал ее в лоб. Я уже говорила, что в нем не было решительно ничего привлекательного, и потому молодая цыганка, несмотря на свое состояние, отпрянула с видимым отвращением.





