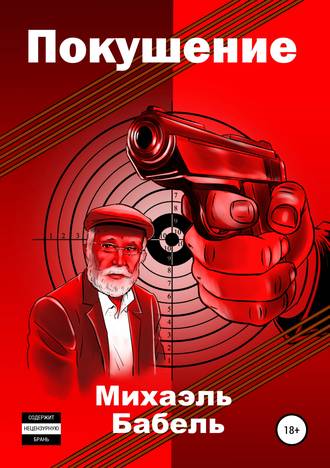
Михаэль Бабель
Покушение
12. Других героев не искал
Других героев не искал.
Бесполезно искать героев в утопии.
Но звонил во все концы. Просил афишировать покушение.
Позвонил начальнику известного сайта. Подробно рассказал о покушении. Попросил дать короткое сообщение.
– Но это же не доказано, – тепло возразил он.
– А что нужно для доказательства? – спросил. – Мой труп?
– Б-же упаси! – испугался он. – Но это не проверено.
Как можно вежливо поблагодарил его.
Нашелся товарищ помогать – афишировать, как я просил.
– Без подробностей, – сказал он, – трудно объяснить людям – не понимают.
Отправил ему «Обращение в полицию».
Тогда он заявил мне:
– Так не пишут. Нужен документ. Чтобы всё было по пунктам. Непонятно, было ли покушение.
– Но оно было! – Мне стало стыдно, что годами играюсь в товарищей. И не только с ним одним.
– Так, как написано, покушения не было! – поучал он.
Мне плевать на свою гордость. Я согласился, что написал галиматью, если ему так хочется.
– Неважно, как написано, – сказал я с надеждой, – покушение было или нет?
– Нет! – ответил он еще тверже. У него тоже была гордость – только он умеет писать, как надо. И он её не растоптал.
Я попросил больше не звонить мне.
Молва о покушении всё-таки разнеслась. Говорить по телефону стало удобнее.
– Алё? – отвечают на том беспроволочном конце.
– Игаэль? – спрашиваю я.
И сразу: ту-ту-ту.
Повторно звоню, отвечает автомат: телефон отключён – позвоните позже.
Гораздо удобнее!
13. Себя не жаль
Себя не жаль.
Дерево посадил.
Камень в землю положил.
Из родника родной земли пил.
Все деревья помню.
Солнце клонилось к субботе.
Я кончал с последним саженцем.
Рядом встал маленький мальчик, его приготовили к субботе и выпустили, чтобы не мешал, – умытый и отглаженный.
– Шабес, – упрекнул он.
– Ещё не шабес, – ответил я.
На саженце был ком земли там, где корни. Нейлоновый мешок плотно облегал ком. Яма была готова. Из одного ведра налил в неё воду, она медленно уходила, впитываясь в землю. Второе ведро стояло полное – полить после посадки.
–А эта вода зачем? – спросил мальчик.
– Дам дереву попить.
На влажное дно ямы засыпал чёрную богатую землю. Разрезал осторожно нейлоновый мешок – не разрушить бы ком и не повредить корни. Двумя руками поднял ком с саженцем и опустил на дно ямы. Между комом и стенками ямы засыпал чёрную богатую землю. Немного подмял её, чтобы вода текла к деревцу.
И прежде чем вылить воду, опустил черные руки в ведро с прохладной водой. Земля слезала с рук, и два бурых пятна расходились по воде.
– Зачем ты пачкаешь воду? – рассердился мальчик.
Я выпрямился. От долгого сидения на корточках затекли ноги. Голова закружилась. Солнце ослепило глаза. Я покачнулся.
– Больше не буду пачкать воду, – ответил.
Я лил воду вокруг деревца, и она быстро уходила в землю.
На пятом этаже открылось окно, позвали мальчика.
Прежде чем убежать, он посмотрел мне в глаза.
Я понял – он меня простил.
Все камни помню.
Большая луна в чёрном небе. Иудейская пустыня. Десять вагончиков рядом. Светло, как в городе. Все спят. Я охраняю. Моя смена. «Узи» в руках. Забора нет. Есть ворота. Делаю круг от ворот и до ворот. И быстро – к своему вагончику. Днём положил несколько камней в землю. Камней вокруг много. Подбирал, подгонял – получилась маленькая площадка. Никак не налюбуюсь. Тишина. Скрипит закрываемая ставня. И снова круг от ворот и до ворот.
Через год работники Сохнута решали, кому здесь оставаться. Раздали конверты жильцам вагончиков. Объяснили: пишите на своих соседей что хотите.
Чиновник, имевший доступ к личным папкам – они считались секретными – сообщил мне, что в моей папке сорок жалоб со стороны соседей.
То есть девять вагончиков настрочили сорок жалоб.
Одна из жалоб – во время дежурства занимается личным хозяйством. Вспомнилась скрипнувшая ставня.
Но больше запомнилась жалоба, что ворую цветы у соседей.
Тот же чиновник рассказал, что в армии окончившим офицерские курсы раздают конверты – писать друг на друга.
14. Себя жаль
Себя жаль: жить в двух утопиях.
И двухчасовой перелёт из одной в другую.
В первой было стыдно.
В партии не состоял, никаким секретарём не был, никуда не лез, никаких постов не занимал, «убийц в белых халатах» не осуждал, но было стыдно.
Вышел на тропу к моему Израилю – больше не было стыдно.
Во второй было стыдно.
От красных бежал, от партий бежал, от покровителей бежал, от подачек бежал, но было стыдно.
Вышел на тропу за мой Израиль – больше не было стыдно.
15. Израильским писателям не звонил. Кто я для них?!
Израильским писателям не звонил.
Кто я для них?!
Но с одним писателем случайно знаком, приятнейший человек, интеллигент, профессор.
В дома не захаживали, но дарили друг другу свои книги.
Он мне – на правильном иврите.
Я ему – суррогаты переводов с русского.
В его книгах читал по нескольку страниц – больше не одолеть с моим ивритом.
Прелесть языка понять – тем более.
Поэтому, когда дарил книгу, честно писал: «Писателю такому-то от Михаэля».
Он тоже, даря свою книгу, написал о моей книге «Мой Израиль» честно: «Писателю такому-то, здесь немного из мыслей, тоски и мечтаний, которые нашел в твоей книге – немного по количеству и много по качеству».
Про книгу «Прощай, Израиль… или Последняя утопия» сказал мне: «Прочёл и всю ночь не спал».
Ему я позвонил:
– Было покушение на меня.
Он ответил:
– Если тебе все равно, позвони через полчаса, у меня сейчас люди.
– Да, да, – мои последние слова.
Тема покушения вообще не разработана.
Вот смерть – до мелких деталей расписана.
Проводы покойного.
Посещение его скорбящих родственников.
Совместная молитва со скорбящими.
И всяких скорбных фраз – мешок.
И скорбный голос – очень к месту.
А вот покушение – сплошная отсебятина.
Делай – что хочешь.
Всё разрешено.
Поэтому я больше не звонил – моя отсебятина.
Он – тоже. Это его отсебятина, но и здоровый стандарт утопии.
16. Израильским писателям не звонил. Кто они для меня?!
Израильским писателям не звонил.
Кто они для меня?!
Амос Оз:
«Шайка "Пульса Денура" пришла к воротам беэр-шевской тюрьмы с пирогами, букетами цветов и подарками. После того, как им не разрешили войти, чтобы порадовать убийцу и нарадоваться им, эти подстрекатели убийства заявили, что государство наше недемократическое. Абсолютно справедливо требовали демонстранты возле ворот беэр-шевской тюрьмы, чтобы их впустили внутрь. Законодательство, прокуратура и суд должны удовлетворить это требование, и как можно скорее: место подстрекателей к убийству действительно рядом с убийцей – за решёткой, причём, с внутренней стороны». («Новости недели», 30.5.1997)
Делиться с такими печальной участью писателя в утопиях?
Хреновый писатель.
Хороший советский писатель.
Хороший провокатор, прокурор, судья.
Важный в шайке убийц.
Перст, указующий жертву.
Лишь потом спускается разнарядка: убрать.
Выбирают недоброжелателя.
Подъезжают к недоброжелателю: «Можно убрать совсем дёшево – у многих на него зуб».
Недоброжелатель повязан – еще не заказчик, но ему уже не открутиться.
Большое утешение – дёшево.
Выбирают одну из банд, которые держат для мокрых дел, – подходящую под заказчика по манерам, языку, привычкам.
Хорошие деньги – на бочку.
Банде показывают заказчика.
Заказчик заказывает у своих.
Это успокаивает.
Появляются морисы и гидоны, наводчики, мотоциклы.
В случае провала сдают заказчика.
В особом случае сдают банду, когда надо охмурить общественность, то есть успокоить.
Амос Оз выходит сухим.
Всегда.
Я вызову эту сволочь на дуэль.
Только утрясу нужные страницы.
17. Давно убивают
Давно убивают.
Что видел у чекистов – уже много.
Что не видел у них – рука Б-жья: уберечь меня.
Что не срабатывало у чекистов – указание Б-жье мне: делать Б-гоугодное.
Позвонил один. Слово за слово. И говорит мне:
– Они тебя убьют.
– А хрен с ними! – ответил.
А разговор был не об этом, совсем о другом.
Но человек это произносит так просто, как выпивает глоток воды.
И человек на это отвечает, как отмахивается от назойливой мухи.
Это достижение утопии.
Страшное – должно быть обычным.
Неизбежным.
Рядом.
Повседневным.
Ежечасным.
Как автобусы, которые должны взрываться.
А в них надо ездить.
Чтобы была полнейшая обречённость.
И согласие на обречённость.
Чтобы никакой крамольной мысли.
Давно убивают.
Не только меня.
18. Топтуна, одного из моих, переводят в Кирьят-Арбу
Я сидел возле редактора в конторе, в центре Иерусалима. Он заканчивал мою трилогию. Оба уставились на экран.
Мой топтун Коренблит вошёл очень браво.
– А, книгу делаешь, – кричал он весело от входа.
Я не ответил.
А пошёл он…
Топтун не обижается. Такова инструкция. Он должен смеяться.
Топтун всех знает и все знают его. Такая задача.
Что он чекист – знаю только я.
Переходит от стола к столу, говорит всем и никому.
Главное – чтобы услышали: «Дают комнату в Кирьят-Арбе. Переезжаю».
Мне бы догадаться, что спущена разнарядка на меня. А топтуна снимают с ненужной уже точки.
Не пачкать руки этой блядью, схватить за воротник: «Валерчик, ведь ты знал, что убивают!»
Затягивать воротником: «Ведь знал, что убивают!»
Кричать сквозь зубы: «Ведь знал, что убивают!»
Догадался о другом: тайная полиция усиливает присутствие в горячей точке.
Слышал, что молодой русскоговорящий рав создаёт там красные бригады.
Бред какой-то!
Не раз чекисты предлагали мне по телефону создавать организацию.
Решил позвонить: предупредить о чекисте и сообщить о покушении.
И дать по мозгам мудакам.
Но вежливо.
Звоню. Создатель бригад на проводе. Решил начать с самого серьёзного – не о чекисте, которых там хватает и без моих.
Назвал себя и успел только сказать: «Было покушение на меня».
Ответ последовал незамедлительно: позвонит через полтора часа.
Можно отстраниться от чужой неприятности.
Или от подозрительного случая.
Или от подозрительного человека.
Но обещать и не сделать.
Начинающий знает: грех.
Жуткая девальвация слова «рав».
19. Памяти рава-маляра и маляра-рава
О многих поступках в жизни сожалею.
Если записать, будет толстая книга.
Однажды, по рабочим делам, катил на своём драндулете после урока рава Зильбера. Перед ним был урок рава Йоэля Шварца. А перед ним урок рава-маляра Немировского.
До обеда он учился сам и учил других, а после обеда работал.
Когда я повернул со Шмуэля-анави и круто поднимался по Ехезкэль, рядом с тротуаром толкал тележку рав Немировский. На тележке были большие банки с краской, в них он упирался и толкал тележку в гору.
Лицо согнувшегося рава и моё лицо, сидящего за рулём, оказались рядом. Мы кивнули друг другу.
Первое, что пришло мне в голову: тележка не войдёт в драндулет.
Многие годы за рулём научили улавливать в глазах людей даже скрытое желание, чтобы их подвезли.
Но глаза рава только приветливо улыбались.
Однажды рав попросил подвезти в дальний район, куда с тележкой не добраться. Пока мы загружали краски, кисти, лестницу в машину, рав рассказывал, почему вынужден попросить меня. Водители автобусов с высоты своих кресел не дают ему подняться со схваченным в охапку имуществом. А вызванные таксисты подъезжают, осматривают выставленное к погрузке на тротуаре и уезжают обиженные.
Моя машина уносилась вперёд от тележки рава. С каждой секундой росла невозможность остановить её из-за множества машин на дороге.
Если бы в его глазах была искорка просьбы.
Мне было бы легче остановиться.
Я бы остановился.
И свершилось бы чудо – тележка вошла в драндулет.
Если бы остановился.
Я плáчу.
– За мои грехи умираю, – сказал рав.
Я сидел у его постели. Я не поверил.
Весь он – от глаз до ног, которые уже плохо слушались, – не просил помощи.
Перед такой силой я боялся произнести слово.
Через несколько дней он умер.
У него не было телефона.
У него не было чековой книжки.
Время не согнуло его.
Верхняя одежда выглядела старее его.
Учил меня:
«Не смотри по шляпе».
«Не суди по бороде».
Я случайно узнал, что он герой.
И раскрыл это в книге «Мудаки»:
«Ешиботник из Меа Шеарим ушёл на фронт, находившийся в нескольких километрах, за Баит-веГаном. Евреи были на высотке, египетский батальон – под высоткой. Прославленный египетский батальон успешно продвинулся к Иерусалиму.
Перед началом боя на высотке были тридцать парней, которых спешно собрали и послали на последний рубеж защиты Иерусалима. За спиной был Баит-веГан, были видны дома, женщины, дети – без мужчин: все были призваны.
К десяти часам вечера египтяне начали: засыпали высотку снарядами и минами, пулемётные очереди прошивали высотку во всех направлениях. Ешиботник оказался в одной землянке полметра на полметра со Шломой Броером. Пули свистели над их головами. Первым бежал командир в первые полчаса боя, за командира стал ешиботник. В паузах между снарядами сотни глоток ревели: "Вырежем евреев! Вырежем евреев!"







