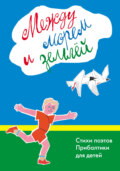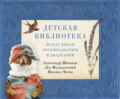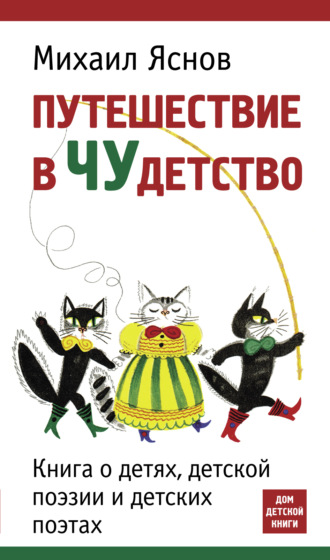
Михаил Яснов
Путешествие в чудетство
Собственно, эти «лет десять-пятнадцать» уже и прошли. Так что слово – за нами. Как бы там ни было, детская поэзия – дело штучное, вот она и пытается противостоять серийному производству культуры, поскольку занимается воспитанием гармонии через образ и слово.
Урок чтения антологии ещё и в том – и это отчётливо показано комментатором, – что включение в круг детского чтения «само собой» происходит не столь уж часто, что, как правило, нужна борьба или настоятельная упорная работа по вовлечению в этот круг лучших стихов. Трёхтомник «Четыре века русской поэзии детям» и проделывает эту гигантскую работу – расширяет, обогащает, а во многом и открывает круг подлинного детского чтения. Надеюсь, безусловная – выдающаяся! – роль антологии в окончательном утверждении поэзии для детей как значительного явления русской литературы и культуры в целом.
Отступление второе.
Шарль Бодлер однажды сказал: «Гений – это чётко сформулированное детство».
Лидия Корнеевна Чуковская в своих «Записках об Анне Ахматовой» вспоминает такой занятный эпизод: дети, которым Осип Эмильевич Мандельштам подарил свою детскую книжку, попросили его:
– Дядя Ося, а нельзя ли эту книжечку перерисовать на «Муху-Цокотуху»?
В этом вопросе сформулирована одна из главных особенностей детского восприятия: я люблю то, что знаю, и всегда хочу иметь при себе то, что знаю и люблю.
Маленькие дети – и это всем известно – удивительные консерваторы: они с радостным визгом открывают мир и тут же вычленяют из него всё полюбившееся, стараясь его, как игрушку, никому не отдать.
Это особенно относится к стихам, если, конечно, стихи сопутствуют воспитанию. Кто из нас не был свидетелем того, как маленький любитель поэзии запоем читает какое-нибудь стихотворение – отрывок из той же «Мухи-Цокотухи», или Маршака, или Барто, или Пушкина, – а на вопрос, кто эти стихи написал, гордо отвечает: «Это я придумал!» Или: «Это я сочинил!»
Лет тридцать назад два бельгийца – поэт Пьер Коран и педагог Робер Кюсс выпустили книгу «Рожок для муз», в которой собрали ответы детей на вопросы: «Что такое поэзия?» и «Кто такой поэт?». Отвечали младшие лицеисты, но в их ответах ещё много отзвуков ранних, первых впечатлений от стихов.
Поэзия… «это песня без музыки», – сказала маленькая Ко-ринна; «это история, которая поёт», – сказала Софи; «это словно мячик катится по земле», – ответил десятилетний Жан-Мари; «это радость жизни, которая заключена в тексте», – заметил умудрённый жизнью Марсель; «это утешение, когда я одинока», – вздохнула чувствительная Ширли… «Если не будет поэзии, что нам останется?» – подытожила уже взрослая, двенадцатилетняя Соня.
А кто же такой поэт?
«У поэта длинные волосы и широкие штаны» (Филипп, 10 лет). «Я его представляю красивым, любезным, усатым, высоким, пожилым. Он крепко держится на ногах, а они у него длинные» (Жерар, 11 лет). «Это холостой мужчина, умный, он труженик, он всех любит и часто у него не хватает времени, чтобы выспаться» (Анри, 11 лет). «Поэт красивый. Это мальчик с каштановыми волосами и голубыми глазами» (Анни, 10 лет). «Он размышляет с утра до вечера. Он мало спит и встаёт по ночам, чтобы писать стихи. У него чёрная борода. Поэт любит детей и с нежностью относится к своей жене» (Жоэль, 11 лет). «Поэт?.. Пожалуйста: это Виктор Гюго, он написал все басни Лафонтена!» (Жоан, 10 лет).
На основе этих и многих других ответов авторы книги создали особый «фоторобот» поэта – каким его видят дети (прочитав «Рожок для муз», я часто задаю подобные вопросы и нашим дошкольникам и младшим школьникам и получаю очень схожие ответы). А что сами дети, – скажем, те, что пишут стихи? Каковы они? Кто они – на фоне современной «взрослой» поэзии?
Европейская – в том числе, наша, отечественная, – поэтическая традиция всегда с уважением и любовью относилась к пишущему ребёнку. И сегодня поэзия детей остаётся включённой в общий процесс. На моей памяти, за прошедшие, скажем, полвека только в нашем городе, Ленинграде-Петербурге, вышло несколько больших сборников детского поэтического творчества, всякий раз они оказывались зеркалом, точно фиксирующим духовное состояние общества, – от барачного оптимизма шестидесятых до печального экзистенциализма девяностых. Однако пишущий ребёнок – при всей его индивидуальности – мало чем отличается от «параметров» ребёнка не пишущего: оба требуют словесного – и нередко стихового – общения.
В одной из лекций Зигмунда Фрейда есть показательный пример изначальной установки ребёнка «на голос». «Я слышал, – пишет учёный, – как ребёнок, который боялся темноты, кричал в соседнюю комнату: «…тётя, говори со мной – я боюсь». – «Но что тебе от этого? Ведь ты меня не видишь!» – «Когда кто-то говорит, становится светлее».
Даже не в столь экстремальной ситуации нормальные дети требуют постоянного общения, разговора. Понятно, что любое юное существо, обладающее хотя бы зачатками разума, сориентировано на звук, на голос. Помню, когда у нас тяжело болел маленький таксик, ветеринар, помимо необходимых лечебных процедур, «прописал» неустанное общение со щенком. Это тетёшканье, отвлечение на интонацию было не менее важным лекарством, чем уколы и таблетки. Ребёнок, естественно, не щенок, и разговор с ним – дело непростое, особенно разговор стихотворный, ведущийся посредством поэтического слова, текста, книги.
Конечно, существуют разные дети, по-разному воспринимающие стих как таковой. Опыт показывает, что привлечь ребёнка к стихотворной речи – занятие не такое уж лёгкое, как это поначалу кажется. Для того, чтобы он заинтересовался стихами, нужно, чтобы сработало несколько условий, и одно из существенных – сама поэтическая книга, её устройство, её оригинальность.
Всё-таки наша цивилизация – пока ещё цивилизация чтения, а стихи в нашем семейном воспитании всегда занимали серьёзное место.
Любовь к поэзии подразумевает богатство чувств. И это главное, к чему может привести поэтическое воспитание. К приведённым выше словам Шарля Бодлера, сформулировавшего «детскую основу» гениальности, можно ностальгически добавить слова другого великого француза, Сен-Жон Перса: «Если бы не детство, что бы ещё было, чего больше нет?».
От Робина-Бобина до Малыша Русселя[27]
О ленинградских переводчиках и стихотворных книжках
Однажды французский писатель Роже Кайуа увидел на улице нищего, который просил милостыню.
На шею нищего была надета картонка с надписью: «Слепой от рождения». Роже Кайуа поинтересовался, много ли денег собирает нищий. Ответ был неутешительный.
– Разрешите написать на вашей картонке несколько слов, – предложил писатель. – Может быть, они вам помогут.
Нищий согласился, а когда через пару дней Кайуа снова его встретил, тот бросился ему на шею.
– Что вы написали? – воскликнул слепец. – Мне стали подавать намного больше, чем раньше!
– У вас было написано: «Слепой от рождения», – ответил Кайуа, – а я перевернул вашу картонку и на обороте написал: «Скоро весна, но я её не увижу».
Эту трогательную историю очень любят рассказывать переводчики поэзии, намекая на то, что одно и то же можно высказать совершенно по-разному и что даже в весьма затруднительных обстоятельствах поэзия может творить чудеса.
Наша детская переводная поэзия – тоже в некотором роде чудо, и, хотя она уже давным-давно вошла в обиход, но ведь ещё столетие назад её практически не существовало. Мы знаем, что сам по себе литературный перевод бытовал в России с XVII века, однако детскому чтению, связанному со стиховым воспитанием, было в нём отведено весьма незначительное место.
Как и детская поэзия, стихотворные переводы для детей долгое время были крошками с барского стола литературы для взрослых.

Понадобилась социальная, эстетическая, языковая революция, переместившая перевод с маргинальных окраин литературы к её центру. Понадобилось, увы, пришествие советской власти со всеми её идеологическими запретами, чтобы детские (и взрослые!) поэты оказались вытесненными в перевод и привели его подспудные силы в мощное движение.
Большое внимание, которое стало уделять правительство Советской России переводной литературе, в том числе фольклору, зарубежным поэтам-классикам, но прежде всего поэтам многочисленных «народов СССР» было неслучайным: «Их имена служили своеобразной идеологической легитимацией режима, который с самого начала объявил себя наследником всей культуры человечества»[28].
Переводчики XIX века методом проб и ошибок нащупывали дорогу к тем принципам художественного перевода, которые были сформулированы только в ХХ.
Корней Чуковский одним из первых обратил внимание на главную беду переводчиков прошлого: «Начиная с двадцатых годов минувшего века, делом перевода завладели журналы, причём редакторы считали себя вправе кромсать переводы как вздумается». Журналы стали плодить «плеяду равнодушных ремесленников, которые переводили спустя рукава одинаково суконным языком (лишь бы успеть к сроку!) ‹…› Они-то и выработали тот серый переводческий жаргон, который был истинным проклятием нашей словесности семидесятых, восьмидесятых, девяностых годов»[29].
Как повелось, пока взрослые решали свои великие проблемы, дети пребывали в полном пренебрежении.
Им преподносился суррогат. Беспомощные адаптации. Переделки. Перелицовки. Переводы с переводов. В лучшем случае – пересказы фольклористов.
Эпос переводился прозой.
Иногда писалось и нечто поэтическое – «про» и «на» сюжеты популярных западных сказок: «Девочка со спичками» Л. Трефолева или «Песня Золушки» Г. Галиной. Редкими удачами могли стать подражания – вроде уже упоминавшегося «подражания немецкому» Б. Фёдорова «Завтра» («Завтра! завтра! не сегодня – / Так ленивцы говорят…»).
В идеальном случае зарубежная поэзия входила в отроческое чтение через оригинальные стихи выдающихся поэтов – такова судьба некоторых баллад В. Жуковского.
Кажется, на весь XIX век приходится чуть ли не одно детское произведение, переведённое стихами и ставшее популярным для многих поколений юных читателей, – «Стёпка-Растрёпка» немца Генриха Гофмана. Анонимный перевод, появившийся в 1849 году, стал по-настоящему «народным», благодаря приёму, узаконенному впоследствии советской игровой поэзией и школьным фольклором: не страшно, потому что смешно.
Кстати, это отмечал ещё Александр Блок, обративший внимание на схожесть Стёпки и народного Петрушки и предположившего, что «сравнение с Петрушкой совершенно доказывает невинность всех кровопролитий, пожаров и прочих ужасов “Стёпки-Растрепки”»[30]. Блок восхищался «Стёпкой», а ведь прошло три четверти века после его появления в русской детской литературе: вот завидная судьба перевода!

В конце столетия ещё одну попытку популяризировать немецкие стихи предпринял Константин Льдов, переведя книжку Вильгельма Буша «Весёлые рассказы про шутки и проказы»; впоследствии она издавалась и в других переводах, но потребовалось ещё почти пятьдесят лет, чтобы за Буша взялся Хармс и сделал из перевода с немецкого маленький шедевр под названием «Плих и Плюх».
Для этого нужна была школа.
Школа отечественного поэтического перевода «для взрослых» идёт от Н. Гумилева и М. Лозинского, для детей – от С. Маршака и К. Чуковского.
Волею судьбы и истории, образцово-показательная роль для переводчиков детских стихов была отведена английской поэзии.
Уже на исходе жизни С. Маршак, опираясь на свой богатейший переводческий опыт, сформулировал несколько принципиальных положений, относящихся к искусству поэтического перевода. Сегодня они кажутся безусловными – и столь же безусловно нарушаются. Поэтому нелишне перечесть их заново:
«Надо так глубоко чувствовать природу родного языка, чтобы не поддаться чужому, не попасть к нему в рабство. И в то же время русский перевод с французского языка должен заметно отличаться стилем и колоритом от русского перевода с английского, эстонского или китайского.
При переводе стихов надо знать, чем жертвовать, если слова чужого языка окажутся короче слов своего.
Иначе приходится сжимать и калечить фразу ‹…›
Нужен простор, чтобы слова не комкались, не слипались, нарушая благозвучие и здравый смысл, чтобы не терялась живая и естественная интонация и чтобы в строчках оставалось место даже для пауз, столь необходимых лирическим стихам, да и нашему дыханию.
Но дело не только в технике перевода.
Высокая традиция русского переводческого искусства всегда была чужда сухого и педантичного буквализма ‹…›
Ведь стихи выдающихся поэтов переводятся для того, чтобы читатели не только познакомились с приблизительным содержанием их поэзии, но и надолго по-настоящему полюбили её.
Переведённые с английского, французского, немецкого или итальянского языка стихи должны быть настолько хороши, чтобы войти в русскую поэзию ‹…›
Точность получается не в результате слепого, механического воспроизведения оригинала. Поэтическая точность даётся только смелому воображению, основанному на глубоком и пристрастном знании предмета»[31].
Рядом с этими тезисами Маршака легко размещаются знаменитые «заповеди» Чуковского детским поэтам, которые читаются и как заповеди переводчикам детской поэзии. Оба классика ратуют за воссоздание на русском языке звучных, чистых, легко запоминающихся стихов, оба предпочитают буквальному переводу свободный пересказ, оба настаивают на эквивалентной замене образов, на подчинении ритмов и словесной игры задачам, свойственным оригинальной поэзии.
Английские стихи в переводах С. Маршака и К. Чуковского такая же виртуозная обработка стихотворных текстов для детей, какой подверглась зарубежная проза в «Золотом ключике», «Волшебнике Изумрудного города» или «Винни-Пухе», когда вместе с К. Коллоди, Л. Ф. Баумом и А. А. Милном авторство на равных разделяют их русские переводчики и пересказыватели А. Толстой, А. Волков и Б. Заходер.

Позднее Борис Заходер в свойственной ему иронической манере сформулировал подобное отношение к переводу:
Конечно,
Это вольный перевод!
Поэзия
В неволе не живёт…
Загадку великой победы Маршака разгадал Чуковский: «…Маршак потому-то и одержал такую блистательную победу над английским фольклором, что верным оружием в этой, казалось бы, неравной борьбе послужил ему, как это ни странно звучит, наш русский – тульский, рязанский, московский – фольклор. Сохраняя в неприкосновенности английские краски, Маршак, так сказать, проецировал в своих переводах наши русские считалки, загадки, перевёртыши, потешки, дразнилки»[32].
О том же говорит Б. Я. Бухштаб – автор одной из самых ранних статей (1929), посвящённых творчеству Маршака: «Если он сходен с английскими детскими поэтами в склонности к шутке, присловью, присказке, народной песенке, то естественно, что ориентируется он на ту шутку, присказку и песенку, которая бытует в русской устной поэзии»[33].
Ориентация на фольклор в равной степени характерна для переводческой практики и Маршака, и Чуковского. Да Чуковский и сам это неоднократно подчёркивал, защищая свои переводы от ретивой и неосведомлённой критики: «Взрослые, кажется, никогда не поймут, чем привлекательны для малых ребят такие, например, незатейливые деформации слов, которые я позаимствовал в английском фольклоре:
Жила-была мышка Мауси
И вдруг увидала Котауси.
У Котауси злые глазауси
И злые-презлые зубауси ‹…›
Дети именно потому и смеются, что правильные формы этих слов уже успели утвердиться в их сознании.
Мою песенку очень бранили в печати за “коверкание родного языка”. Критики предпочитали не знать, что такое “коверкание” с незапамятных времён практикуется русским фольклором и узаконено народной педагогикой»[34].
И всё же между «английскими» стихами Маршака и Чуковского, естественно, есть разница.


Не только в свойственной каждому как оригинальному поэту собственной интонации или стилистической предпочтительности, что само собой разумеется, но прежде всего в выборе вида и жанра перевода. Маршак большинство своих английских переложений действительно приближает к песенке или к юмористическому стихотворению с почти обязательным эпиграмматическим пуантом в его конце. Чуковскому ближе живой, говорной стих с плясовыми ритмами, раёк, а то и тактовик.
Разные переводческие задачи особенно видны, если сравнить подходы Маршака и Чуковского к одному и тому же английскому оригиналу. Хочу воспользоваться случаем и привести цитату из книги Е. Г. Эткинда «Поэзия и перевод» – тем более, что книга эта вышла более полувека назад и с тех пор не переиздавалась. И попутно отмечу, что первоначально портрет Маршака-переводчика был опубликован Эткиндом в ленинградском сборнике статей «О литературе для детей», так что и он – «из Детгиза»[35].
Вот перевод С. Маршака «Робин-Бобин» (или, как писал переводчик, – с двумя «б»: «Робин-Боббин»):
Робин-Боббин
Кое-как
Подкрепился
Натощак:
Съел телёнка утром рано,
Двух овечек и барана,
Съел корову целиком
И прилавок с мясником,
Сотню жаворонков в тесте
И коня с телегой вместе,
Пять церквей и колоколен –
Да ещё и недоволен!
«По-английски всё немного иначе, – пишет Е. Эткинд, – начиная от размера: в оригинале преобладает четырехстопный ямб. К тому же Робин-Бобин съедает совсем не то, что у Маршака, – корову, телёнка, полтора мясника, церковь с колокольней, священника и всех прихожан:
He ate a cow, he ate a calf,
He ate a butcher and a half,
He ate a church, he ate a steeple,
He ate the priest and all the people.

В русском переводе ритм задан хореическим именем «Робин-Боббин». Пожертвовав смешной игрой «a butcher and a half» – «мясник с половиной», которая имеет смысл только благодаря комичной рифме «a calf» (телёнок) – «a half» (половина), переводчик без колебаний присочинил к мяснику – прилавок, да ещё «сотню жаворонков в тесте», да ещё коня с телегой, увеличил число церквей и колоколен до пяти, а главное, придумал последнюю строчку – «да ещё и недоволен», которой нет в оригинале. В английской песенке есть забавные повторения, весёлые рифмы: теперь, с прибавленной последней строкой, они возмещены в переводе…»
Перевод К. Чуковского – «Барабек (Как нужно дразнить обжору)»:
Робин-Бобин Барабек
Скушал сорок человек,
И корову, и быка,
И кривого мясника
И телегу, и дугу
И метлу, и кочергу,
Скушал церковь, скушал дом
И кузницу с кузнецом,
А потом и говорит:
– У меня живот болит!
Дочитаем Эткинда: «Имя “Барабек” прибавлено не случайно, и не только для рифмы. Оно напоминает читателю не то о страшном злодее Карабасе-Барабасе, не то о ещё более страшном людоеде Бармалее. С. Маршак, воспроизведя ироническую интонацию подлинника, несколько преобразовал героя песни, который стал просто великаном-обжорой, чем-то вроде Гаргантюа. Вариант С. Маршака добродушный – у него Робин-Бобин проглотил много всякой живности, да ещё и пять церквей с колокольнями, но ведь он не людоед ‹…› Маршак намеренно игнорировал последнюю строку оригинала, где Робин-Бобин становится чудищем: “He ate the priest and all the people” (Он съел попа и всех прихожан)»[36].
Итак, одно и то же стихотворение у Маршака приобретает вид потешки-песенки, а у Чуковского – дразнилки.
Маршак в свойственной ему манере смягчает, сглаживает резкости оригинала, замены реалий множат элементы комического и всё стихотворение превращается в комедию положений; в конце переводчик употребляет тот самый пуант («Да ещё и недоволен!»), который приближает считалку к эпиграмме, сближает фольклор и литературу.
Чуковский, наоборот, «опускает» перевод до низового жанра уличной дразнилки, литературное «съел» – до просторечного «скушал»; разными способами подчёркивает «припевочность» текста: то внутренней рифмой (корову – кривого), то звуковым повтором (телегУ, дУгУ, метлУ. кочергУ), то примечательным сби-вом ритма («И кузницу с кузнецом»). И наконец находит более близкую к оригиналу бытовую концовку: «And yet he complained that his stomach wasn’t full» (И жаловался, что живот недостаточно полон) – «У меня живот болит!»
С точки зрения психологии чтения Маршак апеллирует к более взрослому сознанию – Чуковский к совсем малышовому, сознанию ещё не читателя, а слушателя. Возможно, поэтому строчки Чуковского остаются в памяти практически всех, кто узнал его в младенчестве; Маршак же нередко по-настоящему воспринимается, когда в читателе пробуждается эстетическое чувство. И тоже остаётся с нами навсегда. Не случайно Маршак стал чуть ли не чемпионом по «взрослому» цитированию детских стихов и строчек.
Ни в коей мере не противореча друг другу, оба наши классика показали, что такое перевод для малышей во всём его объёме, во всём разнообразии подходов и интерпретаций иноязычного текста. Их творчество стало уроком для последующих переводчиков детской поэзии – в том числе, ленинградских, и в том числе, детгизовских.
Ленинградским испытательным полем для детских переводов послужили страницы «Чижа» и «Ежа».

Годы их издания отнюдь не были эпохой, подходящей для знакомства маленьких советских читателей с зарубежной детской поэзией. Ещё хорошо, что шло знакомство с прозой, – с новыми пересказами фольклора и произведений классической литературы. Особую роль при этом сыграли А. Введенский и Н. Заболоцкий – первый, самый популярный автор «Чижа», своими переработками немецких сказок, второй – пересказами европейской классики: «Гаргантюа и Пантагрюэля», «Гулливера», «Тиля Уленшпигеля».
В насквозь идеологизированные 30-е годы переводная детская поэзия вынужденно обратилась к поэзии «братских народов» – вот, скажем, в «Чиже» и печатались то «Ивасик-танкист» Н. Забилы в переводе А. Введенского, то «анонимная» колыбельная песня Джамбула с её популярным в своё время зачином: «Чтобы ты, малыш, уснул, / На домбре звенит Джамбул…»
Безусловным открытием Маршака стало детское творчество Льва Квитко – его стихи чаще всего появлялись на страницах «Чижа», прежде всего, в переводах самого Маршака, затем С. Михалкова, Е Благининой, даже Д. Хармса.
Малоизвестный ныне перевод Хармса – речь идёт о стихотворении Л. Квитко «Танкист» – хорош тем, что, нисколько не изменяя духу и букве своих оригинальных стихов, Хармс-переводчик и в этом конкретном случае превращает советскую «детскую» идеологию в абсурд, бесконечными повторами (которые сегодня читаются как издевательские) «заговаривая» патриотическую риторику, доводя её чуть ли не до идиотизма. Вряд ли эти черты были свойственны оригиналу, но перевод читается именно так:
Сын сказал: «Послушай, мама,
Я танкистом стать хочу.
Я тогда фашистов, мама,
В пух и прах расколочу».
– Да, сынок, – сказала мать, –
Ты танкистом должен стать. –
Сын сказал: «Конечно, мама,
Я танкистом должен стать.
Я ведь знаю, что фашисты
Лезут к нам со всех боков –
Дай им то, подай им это…
Вот бы дать им тумаков».
– Да, дружок, – сказала мать,
Тумаков им надо дать.
Сын ответил: «Верно, мама
Тумаков им надо дать…»
И т. д.
Свойственную Квитко фольклорную основу стиха – «симметрически распределённые строфы, заполненные одним и тем же словесным узором»[37] – переводчик легким смещением акцентов и интонации превращает в лишённую домашних, семейных обертонов заученную речь, словно доносящуюся из громкоговорителя:
«…Знаешь, мама, бить фашистов
Я всегда, всегда готов».
Мать сказала: – Бить врагов
Будь, сынок, всегда готов. –
Сын сказал: «Конечно, мама,
Я всегда, всегда готов».

Такой барабанной дроби противостоит другой перевод из Льва Квитко, опубликованный в «Чиже» и принадлежащий Н. Заболоцкому.
Это стихотворение «Скрипка», написанное в 1928 году; на мой взгляд – одно из лучших лирических стихотворений для детей, напечатанных в журнале за десятилетие его существования. Вот где действительно народные интонации, характерные, в данном случае, для поэзии на языке идиш, нашли в переводе адекватное выражение! Свойственное Заболоцкому безупречное чувство гармонии передаётся средствами, внятными и близкими одновременно и ребёнку, и взрослому, – черта, которая превратила Квитко в выдающегося поэта. Насколько мне известно, с тех пор этот перевод – по крайней мере, для детей – не переиздавался, поэтому приведу его полностью:
Картонная коробочка,
Три ниточки на ней.
Построю себе скрипочку,
Чтоб было веселей.
На тоненькую палочку
Прилажу волосок.
Играет моя скрипочка,
Пиликает смычок!
Приходит кошка – слушает,
И пчёлка не жужжит,
Лошадка вдоль по улице
Торопится, бежит.
Заботливая курица
Забыла про цыплят.
Беги к цыплятам, курица, –
В жаркое угодят!
Играет моя скрипочка –
Трай-ли, трай-ли, трай-ли!
Воробышки на дереве
Чирикают вдали.
Воробышки на вишенке
Уселись и сидят.
Заденут ветку хвостиком –
И ягодки летят.
И смотрят все на скрипочку
Чудесную мою.
Недурно бы на скрипочке
Сыграть и воробью!
Тра-ляй-ляй, моя скрипочка,
Тра-ляй-ляй, мой смычок!
Бежит к цыплятам курица,
И кошка – наутёк!
Н. Заболоцкий был чутким и совестливым переводчиком[38] – вот и здесь он не только сохраняет все восемь строф оригинала, не только следует «малышовому» духу стихотворения, но даже появление и реакция персонажей необыкновенно точно, как в зеркале, повторены в переводе. Редкая удача! Известно, что Заболоцкий, по словам К. Чуковского, «обещал перевести» и другие стихи Л. Квитко для его книги «В гости», которая вышла в Детиздате в 1937 году, но работа эта, судя по всему, осталась неосуществлённой[39].
Впечатляет сравнение «Скрипки» в переводе Н. Заболоцкого с переводом М. Светлова, вошедшим, благодаря переизданиям, в литературный обиход. Светлов (а уж он-то знал язык оригинала!) куда свободнее интерпретирует текст Квитко, вплоть до того, что приписывает ему восемь собственных строчек в конце стихотворения – строчки замечательные, но они превращают эту чуть ли не фольклорную песенку в детскую философскую лирику:
Не сломал, не выпачкал,
Бережно несу,
Маленькую скрипочку
Спрячу я в лесу.
На высоком дереве,
Посреди ветвей
Тихо дремлет музыка
В скрипочке моей.[40]
Во всяком случае, те, давние, «чижовские» переводы Хармса и Заболоцкого из Льва Квитко заслуживают того, чтобы и сегодня их помнили и издавали в детских сборниках.
И позднее традиции, заложенные Маршаком и Чуковским, были подхвачены ленинградскими переводчиками детской поэзии. Начиная с 50-х годов (в середине которых в Детгизе была создана специальная редакция иностранной литературы), стала расширяться и география переводов, и репертуар произведений, а ряды детских переводчиков пополнились новыми именами.

Особую ленинградскую страницу английской поэзии для детей представляют имена Игнатия Ивановского и Нонны Слепаковой.
«Баллады о Робин Гуде» (1963), «Три лесных стрелка» (1972), «Дерево свободы» (1976) – английские и шотландские народные баллады вошли в детское чтение с лёгкой – действительно, лёгкой, то есть искусной и точной, – руки Игнатия Михайловича Ивановского.
Игнатий Ивановский не изобретал велосипедов, но преумножал традицию.
Мы знаем, что любое поэтическое явление становится школой и методом отношений с миром только при многократном повторении сформулированных приёмов; школа – это множественность. Как переводчик англоязычной поэзии Ивановский, конечно же, из маршаковской плеяды – и тем значительней его работа: он довёл до совершенства перевод английского балладного стиха не единичными, пусть и весьма удачными, пробами, но работая над целыми книгами.
Собранные впоследствии в образцовом томе («Воды Клайда», 1987), эти переводы дают представление не только о сюжетах, но о самом строе народных баллад, о той специфической, «романтизированной» речи героев, которая (и это в своё время показал и доказал Маршак) как с молоком матери впитывается с естественным, правильно артикулированным, живым стихом:
– Скажи, Рейнольд Зелёный Лист,
Что делал ты в лесу?
– Искал тебя, мой господин,
Я весть тебе несу.
Там, за ручьём, олень-вожак,
Невиданный олень –
Зелёный с ног до головы,
Как роща в майский день!
– Клянусь душой, – сказал шериф, –
Оленя погляжу.
– А я, – сказал Малютка Джон, –
Дорогу покажу.
«Робин Гуд угощает шерифа»
Лёгкость балладного стиха оттого и лёгкость, что в нём в удивительном сплаве соединены литературный сюжет и просторечный говорок, краткость описаний и богатство возможных ассоциаций. При переводе всё это представляет многократно умноженные трудности, из которых не так-то просто выйти с честью и «поэтическим» достоинством.
Баллады в переводах Игнатия Ивановского дают нам возможность говорить о свежем поэтическом впечатлении, которое остаётся в душе юного читателя. Я познакомился с этими стихами в юности и хорошо помню собственное «отроческое ликование», вызванное пружинистыми, афористичными строками:
Пустился Робин наутёк
И видит ветхий дом,
А в нём старуха у окна
Сидит с веретеном.
– Откуда взялся ты, стрелок,
И как тебя зовут?
– Моё жильё – Шервудский лес.
А имя – Робин Гуд.
Епископ гонится за мной,
Мы старые враги.
Помочь не можешь, так прощай,
А можешь – помоги.
Старуха Робину в ответ:
– Коль ты и вправду ты,
Прими подмогу, Робин Гуд,
От нашей нищеты…
«Робин Гуд, старуха и епископ»
Несколько позже, в середине 80-х годов, я услышал переводы стихов Алана Александра Милна – поэт Нонна Слепакова читала их на одном из собраний детской секции в нашем Доме писателя. С тех пор ушли от нас и тот давний Дом писателя, сгоревший в одночасье два десятилетия назад, и Нонна Слепакова, а её переводы остались – прежде всего потому, что была в своё время, в 1987 году, выпущена издательством «Детская литература» превосходная книга с прекрасными рисунками Б. Калаушина. Называлась она «Я был однажды в доме», и в неё вошло немало поэтических переложений из Милна, с любовью и талантом собранных и переведённых Слепаковой:
Джон носит
Боль-шущий
Прорезиненный
Портфель,
Джон носит
Боль-шущий
Прорезиненный
Колпак,
Джон ходит
В боль-шущем
Прорезиненном
Плаще.
«Так вот, –
Молвил Джонни, –
Вот так
И вообще!»
В этих переложениях очень важны скрытые ремарки переводчика – нам всё время подсказывают, как следует читать стихи: где сделать паузу, где разбить слово пополам, где, как по ступенькам, съехать вниз по строчкам, а где с особым ударением прочитать выделенные большими буквами слова и фразы:
Посередине лестницы,
Посередине ровно,
Ступенька есть волшебная,
Ступенька зачарованная.
Посередине лестницы
Я сяду на ступеньку,
И думать про ступеньку
Начну я помаленьку:
«Я
на полпути
до верха!
Я
на полдороге
вниз!
Ни на улице – ни дома,
Словно в воздухе повис!
Не могу найти ответа –
Помогите мне в беде!
ГДЕ ЖЕ Я?
Наверно, ГДЕ-ТО?
Или ГДЕ-НИБУДЬ НИГДЕ?»
Стихи Милна не раз переводились (вспомним, например, и Бориса Заходера, и появившиеся впоследствии блестящие переводы Марины Бородицкой и Григория Кружкова), но работа Нонны Слепаковой занимает, как мне кажется, особое место в этой «милниане». Мы угадываем и знакомую ритмику английского стиха, и поэтические аллюзии на весёлые и остроумные народные песенки, – и в то же время собственный авторский голос Н. Слепаковой присутствует в этих строчках на равных с голосом английского поэта.