полная версия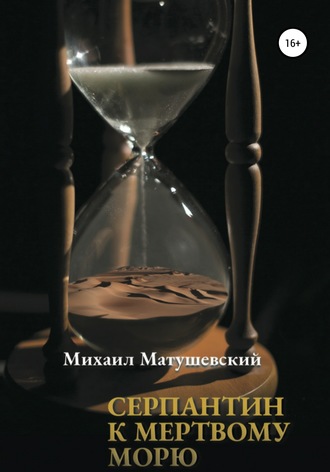
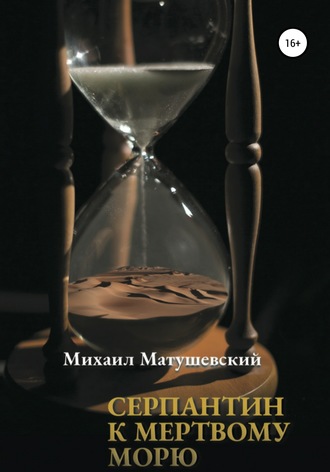
Михаил Матушевский
Серпантин к Мертвому морю
«Когда светло, но меркнет свет…»
Когда светло, но меркнет свет,
и вглубь подземки
уводит разномастье бед,
зачем оттенки?
К чему отчаянье и крик,
когда есть шёпот
и дождевой направлен штрих
пространство штопать?
А дыры почерневших луж —
небес напротив —
напомнят отголоском душ,
как звали плоть их…
Жизнь, на подробности дробя,
не свят (поди ж ты!),
я жив ли, самого себя
себе простивши?
Зимой в Израиле ветра
того регистра,
которым пальмы веера
склоняет низко.
Он проникает в щели рам
с песком Синая,
всё, кроме холода, губам
не позволяя.
Пора. Как память ни дразни
в искусе дальнем,
не заменить живые дни
их осознаньем.
В рассудке холодеет кровь,
как и в «атасе».
Всё шло от сердца до краёв,
стал край опасен,
как нежной цабры колкий бок,
как вкус ранеток,
который вяжет. Всё не впрок,
а – напоследок.
Школьный вальс
Вот так и кончается родина —
под гарь и чечётку колёс.
Прощай, не цепляйся! Особенно —
оградка, с которой не врос
навек в твою землю тяжёлую
и не отморозил мозги.
А кто и кому там занозою?
Вытаскивай или беги…
Неважно. Прощаньем зашторена
часть суши и город (не сад).
Привычно смердит эта родина,
калеча своих пацанят.
И школьные годы чудесные
впадают в протоки клоак,
и песню, накрытую пенсией,
качаясь, везёт автозак.
Попытка – не пытка, и вот она
крестом и рубином Кремля,
кирпичик к кирпичику родина
опять начинает с нуля.
Её материнская линия
не даст потерять берега,
словами покроет недлинными,
чтоб их не делить на слога.
«Фотографии до девяностого…»
Фотографии до девяностого
черно-белым сродни, довоенным…
Кадры жизни счастливого острова,
подошедшего к переменам.
Время бережно или безжалостно
(хорошо бы ещё, если поровну),
как в отжившем «спасибо-пожалуйста».
Но не склеится то, что разорвано.
На подножке вагона, у поручня,
мы смеёмся прощально, куражимся.
Жизнь прекрасна! Мгновенье испорчено —
это ясно и нам, и оставшимся.
Нас другая таможня просеяла,
возвеличив крамолу и золото.
Наконец-то свободой повеяло,
хоть и было неведомо, что это.
Фотографии до девяностого…
Может быть, через год, через сто ли,
станет мифом пропавшего острова
антология наших застолий.
Веер пальмы раскинулся зелено,
дальний лес засинел, как наколка.
На одной фотографии склеены
Средиземное море и Волга.
«Взглянув на календарь – не удивлюсь…»
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.
И. Бродский
Взглянув на календарь – не удивлюсь.
В который раз я вижу эти числа!
Не то чтоб лет наваливался груз,
но их повтор не прибавляет смысла.
Там жили мы, не различая дней
и не пытаясь задержать мгновенья,
когда прогал меж наших двух теней
сливался, становясь единой тенью.
Немного погодя включали свет.
Босых следов не видно на паркете,
и повторив «на свете счастья нет»,
так сладко знать, что есть оно на свете.
Извне четыре четверти окна
переполнялись временами года,
весной была особенно слышна
входная дверь, тогда ещё без кода…
В краю, где март – адар, сентябрь – тишрей,
где вещи зимние хранятся, хоть излишни,
мне снятся отголоски тех дверей,
в которые вошли мы и не вышли,
где вечно неисправный шнур искрил,
в дверной клеёнке ширилась прореха.
И если призрак там когда-то жил,
он переехал с нами. Переехал.
Романс
Память о тебе – лето и цветы,
синева июльская, земляничный вкус,
Генделя мелодия – скрипки да альты
из давно рассыпанной нитки нотных бус.
Блики по воде – память о тебе
у далёкой пристани, где изгиб реки,
где с тобой пропали мы, словно А и Б.
Так и не разгаданы линии руки…
Память о тебе – осень и дожди,
наизусть закрученный телефонный диск.
Если можно заново – заново прости,
улыбнувшись зеркалу в разноцветьи брызг.
Разметало нас в разные края,
до сих пор неведомо, что найдёшь и где.
У разбитой памяти острые края,
оттого и колется память о тебе.
Тянет нить медовую нежности пчела.
Всё что было – к лучшему. Опоздал звонок.
И дорожка лунная по реке легла
до той самой пристани, где остыл песок.
«Авантюризму я не чужд…»
А день, какой был день тогда?
Ах, да, среда.
В. Высоцкий
Авантюризму я не чужд.
При свете дня
круговорот не вод, а душ
накрыл меня.
Счастливых крестиков сирень,
весны разбег…
А день, какой тогда был день?
Ну, да, четверг.
Преодолел все рубежи
и замер хек.
Ты пел, поди-ка попляши,
поддатый век,
в весёлой, мутной суете
под хруст груздя.
Иных уж нет, далече те
мои друзья…
Мы плыли по небу воды,
луны пятак
тонул, смывая все следы
под чёрный лак.
Не завершён автопортрет
под рук углом,
не время нас настигло, нет, —
его разлом.
Врезаясь в облако, дрожа
подобно тле,
не вверх, а вниз летит душа
к любви, к земле.
А там – колода или пень
её хештег…
А день, какой тогда был день?
Ну, да, четверг.
«День, и ещё, и новый день…»
День, и ещё, и новый день —
каркас из кубиков непрочен.
Подуй слегка или задень,
он рухнет в слёзы многоточий…
Храни меня, моя возня!
То иронична, то понура,
вся жизнь не вышла из меня,
но часть уже литература.
Пейзажи памяти, плато.
И нет границ – но есть граница,
где жжёт воспоминанье то,
которым не с кем поделиться.
А ты, мой мальчик, плачешь зря,
на россыпь кубиков в обиде,
смотри, на них полно зверья
в на трети расчленённом виде.
Для смеха сложим невпопад,
а ты потом припомнишь это:
на лапках птичьих – леопард
с дурацкой мордой муравьеда.
Сойдутся омут и звезда,
с весной – напёрсточник и жулик
в день, не оставивший следа
и откатившийся, как кубик.
Старый новый коллаж
Зима, предвестница простуды,
привычно замыкает круг.
О, знать бы мне, что так и будет,
когда пускался на испуг.
Опять язвит в мозгу и в ухе
несвязных мыслей чехарда,
как в банке мутной две-три мухи —
туда-сюда, туда-сюда…
А раньше, правда, лучше было —
весной наденешь новый плащ,
а с ним и знания, и сила,
и воздух резок и пьянящ!
Пойдёшь направо – аты-баты,
налево – песня не нова…
Но мы ни в чём не виноваты,
живя впервой и однова.
Она ни в чём не виновата,
бери Шанель, пошли гулять!
Пройдём по улочке горбатой
ещё не пройденную часть.
Жизнь всё и всех перемогает,
звук замирает за спиной,
всё также Герда любит Кая,
а вы опять больны не мной!
Как нынче ветрено, и волны
у мола бьются вперехлёст!
Плыть иль не плыть? – решенье спорно,
когда поставлен так вопрос.
Как дураку везло! Всё мало,
как платье прежнее мало.
Белеет флаг и парус старый,
по-птичьи вставший на крыло.
«Качнётся мачта, заострив флажок…»
Качнётся мачта, заострив флажок.
По берегу – то пальмы, то оливы,
штормит зеленовато-синий шёлк,
а значит, мы ещё и снова живы.
Свеж средиземноморский май,
и парусники нового набора.
Здесь Лермонтова заново читай,
штудируй теорему Пифагора —
но расстоянья возведя в квадрат,
недоумённо обнаружишь связи
с тем, что оставил двадцать лет назад,
как знанья на «физмате» и «инязе»,
как знанье, что рожденьем обречён
на родину, хотя бы и болото…
Вираж – и остаются за плечом —
и воскресенье там, и здесь суббота.
И лишь язык дворовых словарей
плотней и гуще чёрточек в штрих-коде.
Он первый – твой. А что любви первей?
И разве всё ушло или уходит?
Ты выйдешь в море, а оно в тебе,
разгон волны нашёптывает строки.
Губа не дура, так зачем губе
дрожать, как ученице на уроке?
«Весомее потери от новых обретений…»
Весомее потери от новых обретений —
и вот моя фигура меняет свой наклон,
теряет равновесие, с горизонтальной тенью
сливаясь на асфальте, а это – моветон.
Но в бормотанье строчек на языке нездешнем
(а иногда и здешнем, когда сорвутся вслух),
в наушниках, вспотевшие красиво на пробежке,
стихов моих не слышат – возможно, вышел дух…
Ведь лыжами в подсобке и матами в спортзале
здесь воздух не пропитан – волной солёной мыт.
Как поздно я приехал, чтоб старые печали
тянули за собою, как ногу инвалид.
Весёлым Тель-Авивом так мало мы бродили.
Любили, но смотрели всё с той же стороны —
а в нас уже без нормы вошли его промилле,
и как-то незаметно вобрал нас холм весны,
где жизнь полна, как зёрна в разломленном гранате,
роняют цвет деревья и светотень прорех.
И вспыхнет память-селфи, но рук длины не хватит,
чтоб на едином снимке и всё вместить, и всех.


