полная версия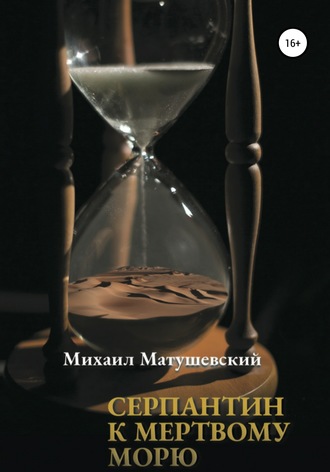
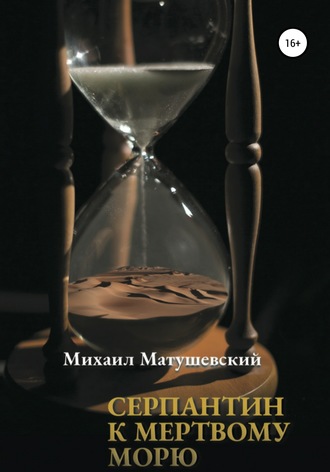
Михаил Матушевский
Серпантин к Мертвому морю
«Море пропитано запахом рыбы…»
Море пропитано запахом рыбы,
рыба напоена свежестью моря.
Мхом поросли облысевшие глыбы,
берега кромка – волнистого кроя.
Эта пробежка – забыть ненадолго,
что невозвратно. При солнечном свете
море, поверхность слепив из осколков,
шепчет: «И это возможно, поверьте».
Не задохнувшись, не выровнять пульса
до шепотка разомлевшего штиля.
Место болит там, где свято, но пусто.
Не сберегли, то есть, недолюбили!
Вот и безмолвствуют рыбьи витии…
Части потерь сохранённые наши,
может быть, памяти швы золотые
склеят подобьем расколотой чаши.
«К чему лукавить до изгиба бровью…»
К чему лукавить до изгиба бровью,
зачем в дороге слушать дробь колёс?
Нужна ли правда, если есть здоровье?
Для тех, кто в теме, даже не вопрос.
Но заблудившись в смене пересадок,
как морячок, прижав к груди компас,
окажешься, как выпадешь в осадок,
в конце дороги, что хранила нас.
Она нас выбрала. И усыплён везеньем,
звучащим, как заплаканная жесть,
прочти «на свете нет чего-то» с выраженьем,
и просто возрази: «но что-то – есть».
Вот жизнь – изрешечённый ломтик сыра,
вот всех времён заигранный вальсок.
Весь шестьдесят шестой сонет Шекспира
написан ради двух последних строк.
«Старых стихов возвращаются первые строки…»
Старых стихов возвращаются первые строки,
их не сменить, остальные – прижались наивно…
Первым дождём переполнены вслух водостоки,
но под навесом подъезда нас больше не видно.
Круглых часов на углу не оставило время.
Всё забирает оно, как безмолвный старьёвщик,
но не меняет, похоже, себе же не веря,
нас, погрузневших, на прежних – весёлых и тощих.
Долгая жизнь предлагает свои продолженья,
словно подзорной трубы выдвигая колена,
блики неясного смысла и мыльного зренья
с золотом лунной дорожки мешая мгновенно.
Влажная, душная ночь погружается в море,
чёрной яичницей море шипит и, вскипая,
берег покатый, как почерк с наклоном, накроет
строчка волны, всё ещё продолженья не зная.
Взглянув за календарь
«Сентябрь. Июльская теплынь…»
Сентябрь. Июльская теплынь.
На горизонте время года
воды переливает синь
в лист голубого небосвода.
Наполовину лес раздет,
задев, навек царапнет ветка,
слетает лист, и на просвет
видна его грудная клетка.
Я там, у осени в долгу
(она всегда была любима),
песок твердел на берегу,
над ним курилась прядка дыма.
Я был свободен в основном,
другим не задолжав и малость,
между причалом и бортом
вода бурлила и сжималась…
И это всё – и лес, и дым,
и синь свободы – на пределе.
Сентябрь, казалось, повторим,
да что «казалось» – в самом деле!
«От миланского плюс семнадцать…»
Э. Ш.
От миланского плюс семнадцать
до московского октября
ветви голые тянут к небу
безнадёжные якоря.
Бесконечности иероглиф,
незабвенные имена…
Души к небу, а небо – в воду.
Почему же она черна?
Декабрь
Летящий косо снег воспоминаний
над тихой улицей (Самарской, например),
над двухэтажными домами, баней крайней,
с нехваткой в лампочке мигающих ампер.
Летящий снег. Следы мои и друга
из школы, вдоль сугробов насыпных,
каток залит на площади, по кругу
несутся тени – не догонишь их.
В пассиве – запах рваной рукавицы
с полуподвальной сыростью, враждой.
Разбитый нос – тем снегом и умыться,
глотая кровь, – а уж потом домой.
Декабрь. В углу оттаивает ёлка,
и невдомёк ещё, что хвойный этот дух
не раз вернётся, перебрав осколки
и на любовь настраивая слух.
И снег вернёт, и выстелит позёмкой
путь от ещё не прожитых начал
и пахнущую новой фотоплёнкой
таинственную темень одеял.
Сомнений нет, и счастье шоколадно,
и слышен хруст под грецкой скорлупой.
В окне, на отражённую гирлянду
с углов нарост вползает ледяной.
«Контуром белым деревья чернеют в саду…»
Контуром белым деревья чернеют в саду.
Мёрзлая даль да пустыня меж мною и садом.
Может быть, в райском неведомом новом году
ты обернёшься, как в райском немыслимо старом.
Льдами дома уплывали в туман декабря,
жмурились окна, кружа в невесомости снега,
и неподвижных, чугунных оград якоря
выбраны были, не выполнив роль оберега.
Что не вернёшь, неотступно пребудет с тобой.
Где бы ни спрятаться, где бы нам ни оказаться —
не разминуться с исхоженной этой листвой —
целую жизнь не меняли в саду декораций.
Но подступают однажды граница и край,
шумом и плеском воды в переполненной ванной
или дождём золотым в ожиданьях данай,
на берегу, там, где море граничит с нирваной.
Дверь на балкон, и нацелен, искрясь, кипарис
в небо указкой. Да что мне на звёздной орбите?
Разве алмазы… На кой мне они там сдались?
Здесь хоть сосед, говорящий со мной на иврите.
«Равнодушно вернулась весна…»
Равнодушно вернулась весна,
лёд апрельский на Волге вскрывая,
за карнизом капель продлена —
перевёрнутая запятая.
Продолжений других не дано,
перекошен зашарканный коврик,
перед дверью закрытой давно,
где бессилен «сезам», но не горек.
Тут себя-то узнаешь с трудом,
в этом жёлчном, небрежном, потухшем.
Был бы девушкой, встал бы с веслом
и застыл, вспоминая о лучшем.
Зелень лета и парк за спиной,
потому так легко и бездумно…
Поскользнёшься на корке земной,
через глину дойдя до корунда.
И поедешь, наклонно, как льды, —
и растаешь. И вытеснит жалость
в море Мёртвом немного воды.
Ровно столько её и осталось.
Как по нотам
Там, вначале, было слово. Но, мне кажется, и до —
безымянное звучало – то, что стало нотой «до».
Двор тянулся до сараев, как и время на дворе,
где, предательски картавя, пробегала нотка «ре».
Два притопа, три прихлопа, далеко до слова СМИ…
Знали твердо, но немного. Третьим пальцем брали «ми»
и садились в дымный, длинный поезд «Куйбышев – Уфа»,
дрожь бежала по составу, паровоз гнусавил «фа».
А «Спартак» делил с «Динамо» безуспешно ноль на ноль,
и в лихом свистке судейском дребезжала нотка «соль»,
в хриплом радио вагонном, боевой ничьей руля,
комментатор пел о главном, чтоб не слышалось «ля-ля»!
Сколько звука пропадает бестолково на Руси,
только палец безымянный попадает чисто в «си».
Это знал последний школьник, самый младший офицер
и считал систему эту он системой новых мер.
Путь пройдя от «Солнцедара» до медокского «Бордо»,
добрались мы (кто б подумал!) и до верхней ноты «до».
В метрономе нет дефекта, тем заметней этот сбой.
Птичий вирус перелёта… А прививки – никакой!
Но повсюду звук до-ре-ми, фа-соль-ля или си-до
в проводах свивает нотных ключ скрипичный, как гнездо.
«Ладони сведу под углом пирамид…»
Ладони сведу под углом пирамид,
неясно зачем, но похоже на клин.
Прижата локтями, поверхность лежит
стола и бумаги и прочих пустынь.
Разлука не вечна. Забвения нет.
Не нов катехизис, но так же расхож.
Сквозь жалюзи пальмы в полосочку свет
мою освещает дорогу. Ну, что ж,
сыграем ещё, пусть опять перебор.
Азарт затихает, а искренность слов
с тех давних, ещё не забившихся, пор
любви не вернёт под сирени дворов
и шёпот листвы под накрапом грибным,
и берег с другим, на закатной цепи.
Не дай умереть, но остаться живым,
и знать, как во сне улыбалась ты. Спи.
В пустыне и воздух другой, и отсчёт,
от зноя дрожащий, тягучий, как мёд.
А сколько песка просто так утечёт
и сколько останется – всё невдомёк.
Не только в ногах, правды нет и в локтях,
нет выше – где клином пробит небосвод.
И только пустыня в песочных часах
в одном направленьи беззвучно течёт.
«Незаметно, как воздух…»
Е. Г.
Незаметно, как воздух,
как счастье в каком-то году,
где обычные дни растворялись
в наборе забот или связей привычных —
заходили в подъезд,
кнопку лифта нажав на ходу,
в окруженьи щелчков и мелодий оборванно птичьих,
поднимались в квартиру,
забросив на вешалку плащ,
проверяли взволнованно сбивчивый автоответчик.
Приближался отъезд,
отголосками прежних удач
освещая земные пути отражением млечных.
Всё в пустеющих комнатах,
всё по-другому звучит,
прежний шёпот любовный,
вернувшись, разносится громче.
Пересадку сердец заменяет обычный транзит
через ту, узловую,
с прилипшим названием «Дольче».
На любом направленьи,
пропитанном запахом шпал
и весенней воды в разноцветных разводах мазута,
прежней жизни не встретишь —
не то, чтоб её потерял,
но значение сжалось, и стала короче минута.
Что осталось ещё?
Пониманье на уровне глаз,
обречённость волны и последних её привилегий
обходиться без слов.
Даже если слова без прикрас
обжигают, как воздух,
как финишный воздух в забеге.


