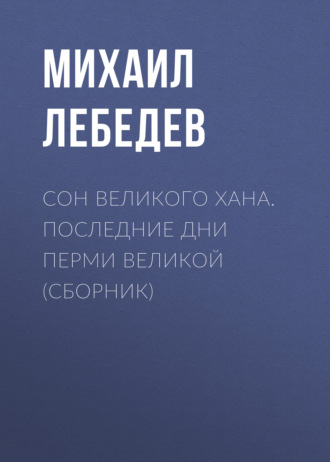
Михаил Лебедев
Сон великого хана. Последние дни Перми Великой (сборник)
IV
Во второй половине XV столетия Великая Пермь делилась на две половины – Верхнюю и Нижнюю. В Верхней Перми был городок Изкар, а в Нижней – городки Чердын, Покча и Урос[20]. Городки эти стояли на правом, возвышенном берегу реки Колвы[21] на более или менее неприступных местах, приспособленных для защиты их от нападений враждебных народов. В городках Изкаре, Чердыне и Покче жили князья, совместно властвовавшие над пермскою страною. В Уросе же начальствовал воевода покчинского князя (главного среди пермских князей), управляя порученною ему местностью.
Великая Пермь, получившая свое название от слов «великая парма» (что значит – бесконечное болото, поросшее густым девственным лесом), раскинулась на большом пространстве. Владения пермских князей простирались до верховьев Печоры и верховьев Камы, распространяясь во все стороны от Колвы не на одну сотню верст. Было тут много болот, считавшихся совершенно непроходимыми, куда не решались проникать самые отчаянные люди. Это была именно Великая Пермь – неприветливая дикая парма, грозно шумевшая своими древними густыми лесами.
Пермскою страною тогда назывался вообще и Привычегодский край, населенный исключительно зырянами, но ввиду своей близости к городам Устюгу и Вологде этот край раньше прикамской части страны пермской подпал под власть Московского государства. Старая Пермь, как именовался тогда зырянский край в отличие от Перми Великой, являлась уже вполне христианскою страною в то время, когда Великая Пермь погрязла во тьме язычества. Святой Стефан, будущий незабвенный епископ пермский, просветил жителей Старой Перми в 1379 году, тогда как обитатели Великой Перми были крещены только в 1462 году четвертым преемником святого Стефана на усть-вымской кафедре епископом Ионою. Городок Усть-Вым, стоявший на правом берегу реки Вычегды, стал называться с 1382 года градом владычным, потому что в нем установилась кафедра епископов пермских. В Старой Перми до пришествия святого Стефана были тоже свои особые князья, которые жили в городке Княж-Погосте, но с того времени, как последний представитель этих князей, кудесник Пама, был изгнан зырянским народом из своей страны, вся власть духовная и светская сосредоточилась в городке Усть-Выме. Там стали жить московские тиуны и сборщики податей; там начали чинить суд и расправу над зырянами по указам великого князя. Москва любила прибирать к рукам мелкие народы. Она не забыла и зырян. Произошло полное подчинение Старой Перми московскому владычеству, и зырянский народ навсегда утратил свою самостоятельность.
Таким образом, к описываемому времени только Верхняя и Нижняя Пермь в Прикамье являлись свободными странами, хотя и они платили дань новгородцам. Но новгородцы во внутреннюю жизнь Перми Великой не вмешивались, довольствуясь собиранием с нее дани, что составляло главную цель тогдашних завоеваний.
В начале лета 1472 года, в дождливый и ненастный день, к городку Покче медленно подъехал какой-то человек на тощей лошаденке, облаченный в невзрачную серую одежду и серую же шапку-четырехуголку, сшитую из грубого жесткого сукна. В руках он держал короткое деревянное копье с железным наконечником, а за плечами у него висел колчан со стрелами и лук с туго натянутой тетивой, сделанной из овечьей кишки. Прибывший неловко слез с лошади, такой же неприглядной и низкорослой, как он сам, суетливо привязал ее к ближайшему дереву и застучался в деревянные ворота городка, окруженного со всех сторон высоким земляным валом.
– Эй, слушайте! Пустите меня! – крикнул он по-пермяцки, увидев человеческое лицо, выглянувшее сверху из-за вала. – Из Чердына приехал я.
– Зачем? – послышался вопрос, сделанный крикливым сиповатым голосом.
– К вашему князю Микалу я послан… от нашего князя Ладмера… С вестью…
– С вестью?
– Да, с вестью. Недобрую весть я привез…
– Неужто вогулы проявились опять? Али другая твоя весть, не про вогулов проклятых?
– Москва на нас поднимается… Москва на нас посылает силу воинскую, которой и сметы нет!.. Отворяй, брат, ворота поскорее. Не время мне с тобой толковать.
– Ах, беда! Ну, беда!.. – забормотал испугавшийся покчинец и быстро скрылся за валом.
Через несколько минут тяжелые деревянные ворота отворились, и посланец чердынского князя вступил в городок, ведя лошадь за собою.
Привратник сказал ему вполголоса:
– Ступай к князю скорее. Недавно с охоты он приехал, пожалуй, спать завалится. А тогда будить его трудно.
– Знаю я, крепок сон князя Микала, но Москва хоть кого разбудит! – усмехнулся чердынский человек и пошагал к княжескому жилищу, находившемуся в центре городка.
Городок Покча, известный в летописях под названием Покчи, стоял на самой вершине крутого холма, омываемого с двух сторон водами реки Колвы, в которую он вдавался отвесным полукруглым мысом. С третьей стороны покчинский холм опоясывала речка Кемзелка, вытекавшая из ближайших болот, снабжавших водою многочисленные реки и речки Пермского края, с четвертой же стороны, на расстоянии сотни сажен от земляных укреплений городка, проходил глубокий овраг, соединявший Колву с Кемзелкой.
В весеннее время, когда этот овраг тоже заливала вода, Покча представлялась настоящею крепостью, находясь как бы на возвышенном острове, не доступном для вражеских нападений. Летом же, разумеется, этот овраг обсыхал, лишая Покчу ее естественного прикрытия со стороны суши, но, в сущности, это лишение особенного значения не имело, потому что вогулы, или остяки, или татары сибирские, – злейшие враги пермских людей – не останавливались перед такими препятствиями, признавая только вооруженное сопротивление защитников, оборонявших свое достояние с поразительным упорством и храбростью.
За внешним валом, окружающим городок, был другой вал, внутренний, снабженный невысокой изгородью из толстых жердей, вбитых стоймя в землю по гребню вала. В промежутках между валами лежало множество коротких бревен и обрубков, вперемежку с грудами камней, заготовленных на случай осады городка внешними врагами. Этими бревнами и камнями покчинцы отражали приступы неприятелей, скатывая им на головы бревна и бросая камни. Кроме того, на обоих валах, в равномерном расстоянии друг от друга, были построены маленькие деревянные башенки, с которых жители городка встречали врагов стрелами. Во втором валу тоже были устроены ворота.
Внутри городка, на довольно ограниченном пространстве – около двухсот сажен в длину и не более полутораста в ширину – расположились жилые строения – маленькие бревенчатые избушки, с узенькими отверстиями вместо окон, затянутыми бычьим пузырем. Тут жили приближенные к князю люди, ратные воеводы и помощники его, многие зажиточные пермяне и большое число отборных охотников и стрелков из лука, составлявших нечто вроде дружины князя. Эти дружинники обитали здесь со своими семействами, занимаясь в мирное время звероловством и рыболовством, а при появлении врагов – обороняя городок от нападений неприятеля, ожесточенно штурмовавшего земляные укрепления Покчи.
В самом центре городка, за высоким деревянным забором, стоял дом довольно искусно выстроенный и, главное, представлявший из себя настоящее подобие новгородских купеческих хором. На этом доме красовалась хорошая тесовая крыша, с двумя трубами посредине, выбеленными раствором извести. Окна были узенькие, высокие, «косящатые», как говорили тогда, со вставленною в них разноцветною слюдою, что тогда составляло большую роскошь даже в богатом Великом Новгороде. Дом этот являлся делом рук новгородских выходцев, которые прибыли сюда удалыми вольными ушкуйниками[22] и по разным обстоятельствам навсегда остались в Великой Перми. Здесь проживал владетельный князь покчинский – властитель Нижней Перми.
Князь покчинский Михаил (по местному произношению Микал) являлся чистокровнейшим зырянином по своему происхождению: все предки его были из народа коми[23]. Отец его был тоже князем покчинским, а дед и прадед князьями чердынскими, откуда его отец переехал в Покчу, потому что Покча для него казалась гораздо спокойнее Чердына. В Чердыне была вечная суета: туда наезжали гости (купцы) московские и новгородские, меновые торговцы из земли камских татар; с Чердына же начинали свои грабежи новгородские разбойники, или ушкуйники. Поэтому, чтобы от греха подальше быть, отец князя Михаила начал постоянно жить в Покче, а в Чердыне оставил своего брата, обязавшегося исполнять волю старшего в роде, то есть князя покчинского. После смерти своего отца и Михаил не оставил Покчи. Этот городок составлял для него место родное, любимое, как он сам отзывался о Покче. В Чердыне же продолжал управлять его старый дядя, Владимир (по зырянскому произношению Ладмер), находившийся в полнейшей от него зависимости. Отношения Ладмера к своему племяннику были чисто подчиненные.
До 1462 года Великая Пермь являлась страною языческою. Князья ее тщательно чтили разных языческих богов, главным из которых был Войпель[24]. Перед ними совершались моленья, им приносили жертвы, но вот около 1462 года пришли из печорского края на Колву монахи Свято-Троицкой обители[25] и возвестили Слово Божье жителям Верхней и Нижней Перми. Монахи эти были зыряне, князья пермские тоже происходили из зырянского рода, – убедительная проповедь соотичей сильно повлияла на них, и они изъявили желание креститься. Тогда прибыл из Усть-Выма епископ Иона и крестил великопермских князей, а затем и весь народ их. Последний, впрочем, крестился не совсем охотно. Многое множество причин препятствовало сердечному уяснению пермянам евангельских истин… Князь покчинский получил при святом крещении имя Михаила. Князья изкарский и чердынский нареклись Матвеем и Владимиром. Епископ Иона основал Иоанно-Богословский монастырь в Чердыне, а в Покче и Изкаре построил по небольшой церковке и поставил в них игумена и священников. Потом он преподал архипастырские наставления своей новопросвещенной пастве, заповедал им во всем следовать христианскому учению и соблюдать душевную чистоту и возвратился в городок Усть-Вым, куда его призывали дела церкви.
Население Перми Великой состояло из всевозможных народцев: зырян, пермяков, остяков, самоедов, вогулов, татар, башкир и других, но главными, преобладающими народами были зыряне и пермяки. Пермяков насчитывалось более всех других, а зырян хотя было и меньше, но все-таки по своей численности они могли считаться вторым народом после пермяков. Затем шли вогулы, но большая часть их не признавала власти пермских князей, а образовала особую орду, которая осела в верховьях реки Колвы и реки Печоры и имела своих князей. Между последними и князьями пермскими длилась вечная распря, зачастую разрешавшаяся кровавыми столкновениями и набегами вогулов на пермские земли. Вогулы опустошали Пермь, но иногда и их постигала расплата – они терпели жестокие поражения от пермских князей, и беспокойный вогульский народ надолго затихал в своих лесах, между верховьями Колвы и Печоры, где он занимался звероловством… Между прочим, в Перми Великой находились и русские. Русских здесь было, однако, не особенно много. Это были новгородские повольники из числа вечных искателей приключений, облюбовавшие пермские леса для свободной жизни. Владетели Перми Великой относились к ним доброжелательно, во-первых, потому, что они служили им незаменимыми посредниками при сношениях с чужестранными людьми: с московскими купцами, с новгородскими сборщиками податей, с удалыми грозными ушкуйниками, из числа которых они и сами происходили, а во-вторых – они знали очень много таких вещей, о чем обитателям Великой Перми даже во сне не снилось. Например, они «ведали» искусство возведения укреплений, умели строить большие дома по образцу купеческих хором, ковали всевозможное оружие, отличавшееся хорошей закалкой, делали прочные щиты от стрел и вообще знали много полезных ремесел, необходимых в домашнем обиходе. Проживали они в разных городках и селениях Великой Перми, и, между прочим, неподалеку от городка Покчи у них был свой собственный городок, носивший название Малого Новгорода, где они образовали нечто вроде крохотной республики, наподобие вечевого устройства Господина Великого Новгорода. Городок этот торчал как бельмо на глазу у всех пермских князей, но они не решались предпринимать чего-либо серьезного против отчаянных русских людей, которые были полезны для самих князей, показывая, как «настоящим людям» жить должно. Да к тому же страх перед всесильным Великим Новгородом удерживал их от неприязненных действий по отношению к русским выходцам. Это позволяло смелым новгородцам беспрепятственно жить на пермской земле, где они являлись первыми по времени русскими поселенцами.
Христианство среди обитателей Перми Великой было распространено повсеместно, но не все подданные пермских князей приняли его по убеждению в превосходстве новой веры над язычеством. Находилось много таких людей, которые только внешне исполняли обряды Православной Церкви, а в глубине души являлись ревностными язычниками. Сам князь покчинский начинал сомневаться в спасительности новой веры. Случилось так, что едва было принято Великой Пермью христианство, различные бедствия (хотя и бывавшие раньше) стали постигать новопросвещенную сторону. Грубые умы приписывали это гневу старых богов, а между тем священников было мало, чуть ли не шесть человек на всю страну, поддерживать новопросвещенных было некому, и недоверие к новой вере стало захватывать всю Великую Пермь.
В таком виде застал Великую Пермь 1472 год, год великих для нее событий.
V
Покчинский князь Микал (мы станем называть его по-местному) спал, когда в дом его явился посланник чердынского князя Ладмера и попросил разбудить его. Домоправитель князя не соглашался было беспокоить Микала, доказывая, что он недавно вернулся с охоты и поэтому нуждается в отдыхе, но посланник стоял на своем, и домоправителю волей-неволей пришлось будить своего господина.
– Зачем? – недовольно спросил Микал слугу, когда последний начал осторожно трясти его. – Чего тебе надо от меня? Ведь знаешь, устал я изрядно!
Домоправитель почтительно вымолвил:
– Прости, господин мой. Не посмел бы я тебя тревожить, но дело такое подоспело… Приехал к твоей милости посланный Ладмера, князя чердынского… приехал с худыми вестями. Прикажешь впустить его?
– С какими худыми вестями? – встрепенулся Микал, с живостью поднимаясь с постели. – О чем еще каркаешь ты, Куштан?
– И рад бы я не каркать, князь, – тихо произнес Куштан, – но страшная беда нам грозит… беда от Москвы далекой!.. Москва ведь на нас поднимается, Москва на нас идет, господин мой, а с Москвою шутки плохи…
Микал побледнел немного. Озноб пробежал у него по спине. Он с испугом поглядел на своего слугу.
– Неужели Москва на нас идет? Неужели Москва, которая Новгород Великий сломила?.. О горе! О горюшко наше! Скорее зови его сюда, зови гонца. Москва страшнее всего…
Домоправитель поспешно вышел. Князь Микал остался в своей опочивальне и с каким-то странным выражением поглядел в передний угол, где висела икона с изображением святого Николая Чудотворца. Сомнение и досада выразились у него на лице.
– Вот она! Вот эта вера христианская! – презрительно прошептали его губы. – Немного добра принесла она нам! Сперва эти тяжелые притеснения новгородских разбойников, а потом битвы кровавые с вогулами проклятыми!.. А потом пошло и пошло: то зверей не будет в лесах, точно они сквозь землю провалятся, то рыба в реках в глубину уйдет, откуда ее не достать никак, так что голодовать приходится! То зима такая наступит, что люди десятками замерзают!.. А наши попы говорят, что это Бог нас испытует из любви к нам… Хороша же, однако, любовь Бога Христианского! Подальше бы от такой любви… право, подальше! Лучше бы не было такой любви, ежели от этой любви люди страдать должны!..
В опочивальню вошел гонец чердынского князя. На лице его была написана глубочайшая почтительность. Он низко поклонился Микалу.
– От чердынского князя Ладмера к твоей милости, князь высокий, – степенно проговорил он. – Прислан к тебе с вестью нерадостной…
– Говори, какая весть? – приготовился слушать Микал. – Кажись, о Москве что-то такое?
– Москва на нас войной идет, князь… Москва нас хочет покорить, как волость новгородскую…
Микал вдруг рассердился почему-то и стукнул кулаком по столу.
– Волостей новгородских здесь нет! – закричал он раздраженным голосом. – Мы вольные люди пермские! Над нами никто не начальствует… Мы сами собой управляемся…
– Прости, господин князь высокий, – униженно закланялся чердынец, видя, что попал впросак. – Не то я сказать хотел. Вестимо, Пермь Великая не волость новгородская. Но ежели мы платим дань Новгороду Великому, Москва-то, значит, и считает нас волостью новгородскою…
– И Москва тебя не умнее, ежели мыслит так, – угрюмо пробурчал Микал. – Не думает, взять в толк она не хочет, что Новгороду не дань мы платим, а только откуп за свое спокойствие даем. А это ведь разница не малая. Понимаешь ты, о чем я толкую?
– Понимаю, князь высокий.
– Ну, ладно, дальше говори теперь, чего ради Москва на нас воздвигается? Ведь ведомо вам в Чердыне многое бывает, о чем мы в Покче даже слыхом в кое время не слыхиваем…
Посланец откашлялся и продолжал:
– Князь Ладмер повелел доложить твоей милости, князь высокий: много-де причин Москва нашла для того, чтоб Пермь Великую воевать, но главная причина такая – хочется-де Москве откуп тот с нас брать, который мы Новгороду даем. А Новгород нынче Москвою побежден несомнительно, ну и разлакомились москвитяне на другой кусочек лакомый, на нашу Пермь Великую, порешили к рукам ее прибрать по обычаю своему по московскому…
Злобная усмешка пробежала по лицу князя.
– Авось подавится Москва проклятая таким кусочком, как наша страна благодатная! – выругался он, считая родные леса действительно благодатными местами для житья людского. – Не сразу ведь мы ей поддадимся! Не эжвинские ведь люди мы, которые сами в московский хомут шею запихали…[26] Мы еще с Москвою потягаемся! О, мы еще потягаемся с Москвою!..
Князь Микал понимал, что он говорит несообразность: Москва была не такая страна, чтобы позволять Великой Перми долгое время тягаться с собою. Но он не лишал себя удовольствия сказать задорное слово по адресу грозной Москвы и горделиво поглядел на посланного, как бы говоря ему взглядом: «Смотри, мол, брат, как я боюсь Москвы!»
– А слухи об этом с Волги-реки пришли, – продолжал чердынец, дав время князю высказать свое хвастовство. – Приехали вчера в Чердын люди новгородские, которые завсегда весной бывают у нас. Говорят, будто в поволжской земле торговали они, но видать, что не торговецкое дело рукомесло их. Шибко уж крикливы они, много вина пьют, оружья разного в лодках навезли видимо-невидимо, а товаров на один грош нет…
И начал их спрашивать князь Ладмер, о чем на Руси слышно. Не грозится ли на кого Москва, которая завсегда готова бывает пощипать того, кто ее послабее? И ответствовали люди новгородские: на вас-де, на пермян, Москва ополчается! Плохо-де пришлось Новгороду Великому от Москвы, а скоро-де и Перми Великой от нее плохо же придется! Такая уж повадка у Москвы – все бы к своим рукам прибирать!.. Так и сказали они… А польстились москвитяне на земли пермские потому, что много здесь зверья ловится, а Москва меха любит, вот и распалился государь московский вожделением на нашу страну, порешил лишить нас вольностей наших. А потом на Москве слух идет о каком-то серебре закамском, которого мы и не видывали, – это тоже воздвигает их на Пермь, ибо москвитяне ух как злато-серебро почитают!.. Беда, сущая беда, князь высокий! – вздохнул чердынец. – С Москвою воевать дело трудное. Прости уж, я правду скажу…
– Да, может, облыжно донесли люди новгородские? – пытался усомниться Микал, не думая уже раздражаться на слова посланца о трудности борьбы с Москвою. – Может, пугают они нас… смеха ради, что ли… кто их разберет…
– Нет, князь, правду новгородцы говорят, – возразил чердынец, сокрушенно качнув головой. – Они даже то пояснили, с какого часу заваруха на Москве поднялась, когда на нас поход готовить начали. Прибыли-де в Москву из Перми Великой люди торговые, москвитяне тоже по роду-племени, которые в Чердыне обитали. И заявились-де они прямо на великокняжеский двор и пожаловались государю своему, что пермяне обидели их крепко-накрепко и всего имущества лишили!.. А этого государю московскому только и требовалось… И сразу объявил он поход на Пермь Великую…
– Да, да, – задумчиво протянул Микал. – Государь московский немалую причину нашел. Купцы те богатеями первыми были, много добра привозили с собой в Чердын. Один даже сукна немецкого пять кусков подарил мне, другой – стальную кольчугу с оружием. Да жалко, прогнать их пришлось, ибо много пакостей чинить они начали… Эх, кабы знать все это!
– А рать московская в походе уже, – добавил чердынец. – Новгородцы досконально про то ведают. Да вот, коли позволишь, князь высокий, князь Ладмер завтра прибудет к тебе с новгородцами… Новгородцы-то ведь послужить тебе думают, с москвитянами биться охотятся. На Москву они злобятся как звери лютые, зубами скрежещут, вспоминаючи, как в прошлом году москвитяне Новгород Великий разорили у них. А это для них горе горькое, погибель сущая. С того самого и сердиты они на Москву…
Микал подумал и сказал:
– Что же, пускай приезжают. Погляжу я на витязей новгородских, каковы они есть из себя. А воители они преотменные, это я наперед знаю. Так и скажи князю Ладмеру, что завтра я ждать их стану.
– Слушаю, князь высокий.
– А кроме того, в Изкар гонца я пошлю, чтоб князь Мате[27] приезжал сюда же на совет наш общий. Это тоже скажи князю Ладмеру.
– Слушаю, князь высокий.
– А теперь назад ворочайся, – заключил Микал, находя разговор с чердынцем законченным. – Я знаю, притомился ты порядочно, сюда едучи, но от Покчи до Чердына недалеко[28]. Пожалуй, засветло успеешь еще ты до дому добраться… Ну, с Богом! Передай князю Ладмеру то, что я сказал.
– Слушаю, князь высокий, – опять повторил посланец и, поклонившись, вышел из комнаты.
Князь Микал остался один.
Глубокая скорбь и раздумье выразились у него на лице…
Природный типичный зырянин, с маленькою рыжеватою бородкой и выразительными карими глазами, он производил впечатление настоящего родовитого князя, чему много способствовала его важная и горделивая осанка и привычка обращаться с другими повелительно. Говорит он всегда по-зырянски, но он умел также говорить и по-пермяцки, и по-вогульски, и по-русски. По-пермяцки говорить было немудрено, потому что пермяцкий язык составляет ветвь того же зырянского и зырянин может хорошо понимать пермяка, как равно и пермяк зырянина, но вогульский и русский языки (в особенности русский) знали очень немногие из зырян того времени, и князь Микал являлся первым человеком своего народа не только по положению, но и по уму. Это был не робкий и трусливый зырянин, какими обыкновенно представляют людей племени коми, это был, напротив, отменно смелый и решительный человек, крепко державший в своих руках бразды правления, отличавшегося, впрочем, большою простотою и несложностью. Конечно, силою обстоятельств князь Микал вынужден был переносить безропотно своеволие русских выходцев (преимущественно ушкуйников) в пределах Перми Великой, но, наверное, не тяготей над ним ненавистная новгородская опека, он в свое время натворил бы много таких дел, о чем его предшественники и подумать бы не смели… Но вот, как могучий дуб, подсекаемый рукою дровосека, затрещал Великий Новгород… Князь Микал начал было поднимать голову: Новгород хоть не всегда, но все же давал себя чувствовать, а тут открывалась полная свобода действий… и вдруг – грозная Москва!.. Озадаченный князь призадумался. Этого он не ожидал… Для него не составляло тайны, что в Москве заключается страшная сила, готовая сокрушить всякого, кто ей задумает противиться. О Москве долетало много слухов и с Привычегодского края, где тамошние зыряне считались подданными московского великого князя. О Москве же десять лет назад повествовал епископ Иона, крестивший Великую Пермь. А затем рассказы и похвальба московских купцов, любивших покичиться перед пермянами богатством и укладом своей родины, – все это, вместе взятое, естественно, заставляло князя Микала думать не без досады, что Москва Великой Перми не по силам. Москва не вогульская орда, Москву не заставишь бежать перед собою. Москва победила Великий Новгород, Москва может покорить и Великую Пермь… Князь Микал соображал: как быть?
Обстоятельства складывались зловещие. Он не любил предаваться отчаянию, это было не в его характере. Он выказывал всегда твердость духа и при случае любил похвастать, но он не являлся пустым хвастуном, как это обыкновенно бывает, а хвастал только тогда, когда ему представлялась в том необходимость… И вдруг ужасная, небывалая мысль блеснула в его голове:
«А что, ежели мы сами себя погубили принятием веры христианской? Москва – православная страна, крестил нас епископ православный, московскому государю подначальный, не сделались ли мы через то подвластными Москве людьми? От Москвы ведь все станется, она не постоит ни перед чем, только бы силу забрать над кем ей угодно. Такая уж повадка у нее… Неужто так случилось, что предала нас вера христианская в руки московские?..»
Князь Микал содрогнулся. Предположение было ужасное. Неужели христианская вера предала его?..
Конечно, по словам чердынского вестника, на Москве придрались к обиде, нанесенной пермянами купцам-москвичам, но, по-видимому, это не являлось истинной причиной похода москвитян на Пермь Великую… Христианство погубило пермских людей, легкомысленно, по мнению князя Микала, переменивших старую веру на новую и жестоко за это поплатившихся…
– Эй, кто там! – крикнул Микал, хлопнув в ладоши. – Адзяна-конюха послать ко мне!
– Вот я, – явился Адзян. – Чего изволишь приказать, князь высокий?
– Слушай, Адзян, – заговорил князь, придавая своему лицу строгое выражение. – Скоро темнота землю покроет, но мне надо человека в Изкар послать сейчас же. Можешь ты ночью добраться до Изкара?
– Постараюсь, князь высокий.
– Какой же дорогой ты пойдешь: лесом аль рекой в лодке?
– Пешею тропой я пойду. Только бы на зверя не нарваться али где с вогулами не встретиться… Всяко ведь случиться может…
– Не слыхать нынче что-то о вогулах. Стало быть, спокойнее стали они. Не выглядывают из углов своих поганых… Нечего бояться их тебе. А дело я такое поручаю тебе, Адзян. Ежели дома Мате, князь изкарский, не мешкая его ты повидай и скажи ему, что я его в Покчу зову на совет наш общий княжеский. Дело, мол, важное есть. Москва, мол, на нас войско шлет. О том и совет будет. Слышишь?
– Слышу, господин князь высокий.
– Смотри же, не мешкая в путь выходи, – строго проговорил Микал. – Я не люблю проволочек. К утру ты в Изкаре должен быть непременно. Такова моя воля непреклонная.
Он махнул рукой – и Адзян скрылся за дверью, оставив своего повелителя в тревожном раздумье о новом бедствии, надвигающемся со стороны московского государства.



