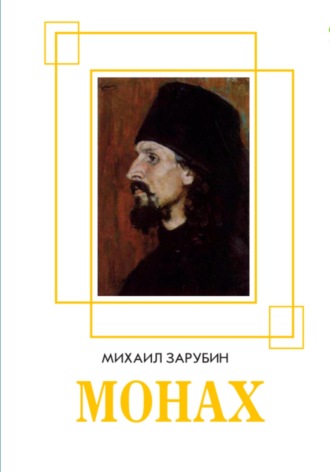
Михаил Константинович Зарубин
Монах
Тяжелый день
В конце восьмидесятых на заводской территории шло большое строительство. Завод, который основал Николай Иванович Путилов, переживший царские войны, революции, стоявший в первых рядах обороны города в Великую Отечественную войну, полностью перестраивался.
Не было живого места, где бы строители что-то не переделывали.
Завод являлся лидером по выпуску мирной продукции в России, однако все знали, что цеха и производства перестраивают под оборонку, хотя делалось все под большим секретом. В заводских цехах выпускали новые образцы танков, а также турбины для подводных лодок и еще много чего, необходимого армии и флоту. Строительство и реконструкция на действующем производстве велись без остановки, и днем и ночью, и работало здесь почти сорок тысяч человек, да еще армия строителей со своей, по тем временам современной техникой. И вся эта людская масса располагалась на пятачке земли. Для того чтобы ничего не сорвать, не наделать бед, чертились графики, заранее согласовывались переходы через заводские «улицы» всевозможных сетей, проводились совещания, летучки, пятиминутки. Вся заводская территория была разбита на четыре строительные зоны, каждая из которых была закреплена за генеральным подрядным управлением, которое подчинялось строительному тресту, тот главку и так далее по ступенькам до политбюро партии, руководившей страной.
Начальником одного из таких управлений был тридцатишестилетний Алексей Петрович Зорин. Чуть ниже среднего роста, коренастый, на крупной голове темно-русые волосы, упрямый подбородок, прямой, с чуть заметной горбинкой нос, голубые глаза с цепким взглядом. Когда улыбка освещала его лицо, оно становилось добродушным, и на щеках появлялись ямочки. Он знал об этом, потому улыбался редко, обычно был молчалив и сосредоточен. Работа для него начиналась в восемь утра, заканчивалась по обстановке, но раньше двенадцати домой он не попадал. Только молодость спасала организм от такой нагрузки.
Партия зорко следила за делами на заводе, строителей тоже не забывала. По вторникам на заводе проводили оперативное совещание, связанное со строительством и реконструкцией производств и цехов. Совещания всегда проходили в кабинете генерального директора, хотя в большом здании заводоуправления по другую сторону от приемной располагался огромный зал заседаний. Завсегдатаи говорили, что традиция проведения совещаний у генерального появилась, когда его кабинет находился в другом месте и являлся самым большим помещением. Надо отметить, что каждый вторник на совещании присутствовал и сам генеральный. Это была традиция. Редкие исключения, конечно, случались, если мешали командировки или отпуск.
От строителей, во главе стола, всегда располагался заместитель начальника главка, так накоротке называли главное управление строительства. Нет, это не был «свадебный генерал». Строительство на заводе вели десятки субподрядных организаций, принадлежащих различным министерствам и ведомствам страны. В пиковые моменты число работающих доходило до десяти тысяч человек. И всей этой армией нужно было управлять, направлять, координировать. Деятельность этого человека чем-то напоминала работу дирижера огромного оркестра. К нему по всевозможным линиям связи стекалась информация обо всех проблемах, теоретически он за все был в ответе, на практике иногда случалось иначе. Будучи во главе строительства, как и любой человек такого ранга, он совершал ошибки при принятии решений, но кто мог их оспорить? Он мог миловать и наказывать. И последнее слово всегда было за ним.
Долгое время во главе штаба стройки на заводе находился первый заместитель начальника главка, умнейший и опытный руководитель, которого знали и уважали все: и инженеры, и рабочие. Но год назад его проводили на пенсию, и на его место заступил заместитель, но без приставки первый, амбициозный мужчина средних лет, успешно закончивший многие городские стройки. Партия на такие должности случайных людей не назначала.
Очень часто приезжали «почетные гости» – чиновники из министерств, представители партийных органов. Бывало – обычно в конце года – совещания шли несколько часов без перерыва. Кондиционеры не справлялись с вентиляцией воздуха, дышать было нечем, и все присутствующие походили на рыб в аквариуме. Пытались открывать окна, но сходящие с конвейера тракторы несли в помещение дым и гарь, так что окна тут же закрывали. Итог всех совещаний был один: надо построить, надо реконструировать, надо смонтировать, надо все выполнить в срок, а лучше досрочно. В случае невыполнения сроков исключить из партии, снять с работы, наказать выговором. Однако выговоры и замечания были, как комариные укусы, незаметны и бесследны. Каждый вторник толпа руководителей строительных организаций шла на совещания, как на Голгофу, не зная, чем они закончатся.
В очередной вторник заместитель начальника главка Константин Викторович Ершов приехал на заводскую территорию на час раньше. Появился он без предупреждения, что-то не сработало: то ли связь, то ли помощники. Скорее всего, возвращался с очередного объекта, где проводил совещания, и в главк заезжать не стал. В обход по стройке пошел один, пока сообщили о его приезде, пока его нашли, он был уже на взводе. А может, завелся еще раньше. Когда Алексей Петрович добрался до него, тот распекал начальника участка. Голос у Константина Викторовича луженый, подстать фигуре. Был он мужчиной двухметрового роста, косая сажень в плечах. Увидев Алексея Петровича, даже не поздоровавшись, зарычал, словно медведь в берлоге:
– А, вот ты где! Посмотри, как ведут кладку, они что, совсем разучились работать?!
Зная непростой характер Константина Викторовича, Алексей Петрович решил промолчать.
– Ну, чего молчишь, сказать нечего?
– На мой взгляд, Константин Викторович, под штукатурку нормальная кладка, – выдавил из себя Алексей Петрович. Но лучше бы он этого не говорил.
– Люди добрые, поглядите на него! Это он считает нормальной кладкой?! Да разобрать надо все к чертовой матери, за такую работу всех выгнать, а тебе строгача влепить! – Указал он пальцем на Алексея Петровича.

Он еще что-то хотел добавить, но в это время подошел управляющий трестом, и переключил разговор на себя. Алексей Петрович, вздохнув с облегчением, подумал, что наконец-то его муки закончились, и стал потихоньку отходить от начальства. Но, видимо, такой уж случился день.
– Зорин! – услышал он зычный голос Константина Викторовича. – Ты куда, парень? Ну-ка подойди ко мне.
Алексей Петрович подошел.
Стоять рядом с высокорослым начальником ему было неудобно, приходилось задирать голову, чтобы видеть лицо говорившего, так как тот был на эту самую голову выше.
– Где монтажники? Почему не работают? Опять площади не передали под монтаж? – посыпались вопросы.
Алексея Петровича стала уже раздражать начальственная наглость.
– А вы сами догадайтесь с трех раз, где монтажники? – вдруг сказал он.
– Что ты сказал?
– Да ничего. Что же вы уже минут двадцать орете, словно петух вас в одно место клюнул.
– Что? – Константин Викторович даже склонил голову, и чуть пригнулся, чтобы внимательно разглядеть говорившего.
– Что слышите. То вам кладка не нравится, то монтажников начинаете искать в этом цехе, а они сделали свою работу и ушли отсюда месяц назад.
Управляющий трестом, подойдя ближе к Алексею Петровичу, потихоньку дернул его за рукав, чтобы тот не зарывался.
– Григорий, кто это? – вдруг обратился высокий начальник к управляющему трестом.
– Начальник управления, – ответил тот.
– Я знаю, что начальник, он твой работник?
– Мой, мой.
– Так гони его к хренам собачьим! Ишь, говорить научился, больно много гонору у него.
Внутри у Алексея Петровича все кипело. Ну, пусть большой начальник, однако кто ему дал право так разговаривать, словно кругом нелюди. За последний год, то есть за время кураторства Константина Викторовича, он довольно часто встречался с ним. Не однажды видел, как, порой из-за пустяков, тот съезжал с катушек, и начинал метать громы и молнии направо и налево. Но сия беда обходила Алексея Петровича стороной. Обходила до сегодняшнего дня. Полный негодования на несправедливый разнос, за пренебрежительное отношение, он отстал от начальников, неловко поглядывая на своих подчиненных, которые слышали весь разговор. Однако неприятности этого дня не закончились, и все, что было при обходе, потом показалось цветочками. Начав совещание и проверяя выполнение работ за неделю, Константин Викторович зацепился за срыв срока по представлению фронта работ сантехникам. Там и срыва-то не было, исполнители уверяли здесь же на совещании, что работа сделана, бумагу не успели подписать, но Константина Викторовича было уже не остановить.
– А ты, Григорий, его защищаешь, – обратился он к управляющему, добавив несколько крепких слов, – запишите в протокол: объявить Зорину выговор за несоблюдение сроков при выполнении работ в соответствии с протоколом.
– Константин Викторович, – обратился к нему Алексей Петрович, – но вы же не правы, работа выполнена в срок.
Но тот, повернувшись к нему и удивленно подняв брови, добавил.
– Для глухих повторяю – выговор.
– Да, видимо, правильно говорят, и у мужчин бывают критические дни, – довольно громко сказал Алексей Петрович.
Кто-то хихикнул, кто-то засмеялся, улыбнулся даже генеральный директор, который до этого не обращал ни на кого внимания, рассматривал и подписывал стопку бумаг, лежащую перед ним.
– Чего он сказал? – прищурив глаза, спросил Константин Викторович у управляющего трестом. Тот пожал плечами.
– Что ты сказал, про какие дни? – обратился Константин Викторович уже к Алексею Петровичу.
– Я сказал, что у мужчин тоже бывают «критические дни», – повторил тот громко и ясно, так, что не понять этого уже было нельзя.
В кабинете повисла тягостная тишина.
– Вот, значит, ты до чего договорился. Язык свой распустил, словно ботало. Знай, мальчик, таких, как ты, я встречал десятками и сотнями. Думаешь, умную вещь сказал. От греха подальше выйди отсюда вон, учитывая мои «критические дни», чего бы побольше тебе не получить!
Алексей Петрович пошел к выходу в полной тишине. Такого не случалось никогда. На совещании могли обругать, наказать, бывали случаи, когда снимали с работы, но чтобы выгонять начальника управления, как нашкодившего ученика на уроке, такого не было никогда. Однако вот случилось, и какие действия будут предприняты после этого, никто не знал.
У Алексея Петровича сердце стучало так, что он думал, еще секунда, и оно выскочит из груди. Виски сжало железными обручами. Гнев душил, так хотелось взять в руки палку и стукнуть по голове дурака-начальника, смачно обматерить, иронично подколоть. На языке уже вертелись готовые слова, горячие, как угольки, и остренькие, словно перчик. Уже спускаясь по лестнице, подумал: правду говорят: «Тот прав, у кого больше прав». Закрывая дверь заводоуправления, он испытал странное чувство стыда за содеянное. Он попытался с ним бороться: пусть он не сам начинал эту свару, но что стоило промолчать, прижать губы, знал ведь, что «спорить с начальством – плевать против ветра». Стыд и обида переполняли его. Упрекая себя, находя малейшие зацепки для оправдания своих действий и слов, Алексей Петрович понимал, что все это не останется без следа, не забудется, да и «добрые люди» напомнят заместителю начальника главка о дерзости молодого человека.
Он говорил себе: ну все, успокойся, уже случилось, не казни себя, дело сделано.
Вечером, принимая рапорты с объектов о проделанной работе, он действовал на автомате. Коварные мысли не давали покоя. В голове шел нескончаемый внутренний диалог. Алексей Петрович невольно возвращался к разговору с начальством, пытался отогнать эти мысли, но они не хотели уходить.
Звонили сотоварищи по работе, присутствовавшие на совещании, успокаивали, говорили слова поддержки. Но он понимал, что это дежурные слова, никто не пойдет защищать его, промолчат, от этого становилось тошно.
Позвонил секретарь парткома, с которым они были в дружеских отношениях.
– Ну, ты даешь, Петрович, кто тебя дергал за язык!
– Да, хрен его знает.
– Держать себя в руках надо.
– А ему не надо?!
– Он начальник, к тому же член обкома. Ну, держись теперь, я, конечно, переговорю с управляющим, чтоб сильно тебя не рубили.
– А что, думаешь, могут?
– А сам-то как думаешь? На смех поднял при всем честном народе! Это быстро до верхнего начальства дойдет, а там хоть и посмеются, но для порядка дадут команду наказать.
Управляющий трестом не позвонил. Все оставалось в жуткой неопределенности. Он сам позвонил, но референт управляющего, добрая женщина, относившаяся ко всем по-матерински, посоветовала:
– Не лезь пока, пусть все утрясется и успокоится.
Зашел Михаил Эфрос, приятель из монтажного управления, принес бутылку коньяка.
– Давай, по граммульке, может, полегче станет.
– Да вряд ли, Миша, и желания особого нет.
– Надо расслабиться, Петрович.
– Надо, но коньяком не буду.
– Ладно, – сказал Михаил, – тогда прими слова соболезнования и держись.
– Что, уже хоронишь?
– Да ну тебя, язык у тебя дурной.
– Да уж, с языком не повезло.
Кроме Михаила, никто не зашел, может, некогда было, а может, испугались.
Поздним вечером, уже выйдя на улицу, Алексей Петрович вдруг судорожно стал вспоминать, закрыл ли дверь кабинета, позвонил ли охране. Пришлось возвращаться, чтобы убедиться. Оказалось: сдал, позвонил.
Несмотря на поздний час, трамвай оказался переполненным. Он с трудом забрался в вагон и, как только двери закрылись, его прижали так, что он чуть не закричал от боли.
«Что за день-то такой ужасный, – подумал он. – Ну во всем невезуха».
Выбираясь из трамвая на своей остановке, он долго не мог отдышаться. Чтобы успокоиться, присел на скамейку. Опять вернулись прежние мысли. Сейчас он уже знал, как должен был бы вести себя. Главное, мучило другое: чем все разрешится. Такое добром не кончается. Он был уверен, слов о «критических днях» ему не простят. Откуда они попали на язык, где-то услышал недавно. Неужели уволят. За слова, конечно, не уволят, найдут другую причину.
Алексей Петрович подходил к своему дому, пытаясь выбросить из головы противные мысли. Вспомнилось, как два месяца назад он успокаивал приятеля, которого бросила жена. Достал книжку «Как бороться с депрессией», читал ему: «…с приходом мыслей о плохом стоит постараться избавиться от них и подумать о чем-то другом, хорошем. Никогда не прокручивайте их в голове, не повторяйте свои плохие мысли. Попробуйте превратить негатив в позитив. Вместо: я никому не нужен, я одинок – скажите себе: у меня все будет хорошо, я добьюсь счастья…».
Приятель не дал закончить, замахал руками:
– Не надо мне ничьих советов, без них тошно.
В подъезд родного дома он вошел, собираясь воспользоваться этими советами. «Стоп, – сказал он себе. – Хватит гнать тоскливую волну, еще не хватало расстроить Машу и девчонок».
Зашел в лифт, посмотрел на себя в зеркало: уставшее, посеревшее лицо, на висках седые волосы, под нижней губой уже определилась морщина, под носом не выбритый клок волос.
«Господи, красавец-то какой, испугаться можно. Да с такой мордой, в двенадцатом часу – самая пора приходить домой. Слава Богу, что по дороге никого знакомых не встретил, а то напугал бы».
Он открыл своим ключом дверь, но, несмотря на поздний час, Маша ждала его. Она улыбалась ему своей милой приветливой улыбкой.
– Добрый вечер, Лешенька. Сегодня отключили горячую воду, я нагрела в кастрюлях, чтобы обмыть твою заводскую грязь.
Он снял с себя верхнюю одежду и пошел в ванную комнату.
Ласковые руки жены намыливали его жесткие волосы душистым мылом. Он с давних пор привык мыть голову мылом. Маша не отговаривала его, хотя сама мылась шампунем.
– А ну, Леша, закрой глаза.
Теплая вода потекла по голове, по плечам, отдельные ручейки побежали к животу.
– Ниже, ниже голову, – слышал он Машин голос.
Господи, как это похоже на мамины слова, она делала точно так же и говорила также, когда отмывала его от дорожной пыли деревенской улицы.
– Дальше мойся сам, – сказала Маша, – а я разогрею тебе ужин.
Он пришел на кухню посвежевший. Мытье помогло справиться с грустными мыслями.
– А что девчонки? – спросил он.
– Не дождались тебя, Леша, уснули. – Она улыбнулась. – Завтра им очень рано вставать, едут со школой на соревнования по спортивному ориентированию.
– Слушай, Маша, хотел тебя спросить, ведь Анюте уже шестнадцать, она влюблена в кого-нибудь?
– Не говорит. И я не лезу с расспросами. Придет время, сама скажет.
Он повернул ее лицом к себе. Они смотрели друг другу в глаза. Такие похожие глаза, потому что любящие. Она взяла его за руку, погладила ее, прикоснулась к щеке губами, он попытался ее обнять, но Маша выскользнула из его объятий.
– Подожди, родной.
– А ты помнишь, Машенька, как я тебе в шестнадцать лет в любви признался?
– Разве такое забудешь? – Она улыбалась, глядя на него. – Темная, претемная улица в холодный декабрьский вечер, замерзшие пальцы рук, заледеневшее лицо, а рядом мальчишка, шепчет слова про любовь.
– Все, давай-ка садись ужинать, а я с тобой посижу. Я сегодня с работы шла, и не знаю уж почему, заглянула в театральные кассы. И представляешь, – она замолчала, он тоже поднял голову, взглянув на нее, – купила билеты. Ты не поверишь, в какой театр и на какой спектакль!
Он смотрел на ее сияющие глаза, и любовался ею, ему нравилась живость ее и радостная улыбка, как много лет назад. Его любимая Машенька наполняла собой все вокруг, ее простое домашнее платье, обыкновенная прическа, казались ему прекрасными, а нежный, негромкий голос поднимал настроение, тихий, заливистый смех притягивал к ней, словно магнитом. Родив двух детей, прожив в браке два десятка лет, она сохранила красоту и обаяние двадцатилетней девушки. Тягостные мысли, которые еще час назад одолевали Алексея Петровича, улетучивались, оставалась только эта кухня, сидящая напротив жена, его вечная любовь, и спящие в комнате девочки. И он подумал: у меня крепкая семья, дочери скоро станут невестами, почему я должен позволять оскорблять себя. Разве ради жены и дочерей я не должен себя уважать? Я не мальчик, и специалист я хороший. Что будет, то будет. Выгонят с работы, новую найду.
– Ну, догадайся же, в какой театр я взяла билеты! – Он, для приличия нахмурив брови, посмотрел на потолок, улыбнулся. – Ну, ты хоть попробуй!
– Ты знаешь, я очень хочу попасть в Большой Драматический, и неважно, на какой спектакль.
– Уже теплее, билеты в БДТ, а угадай спектакль.
– И угадывать не буду, я уже счастлив.
Он смотрел на нее и улыбался.
– Я купила билеты на спектакль «Дачники».
– Ого, как тебе это удалось?
– Сама не знаю. Может, кто-то резервировал и в последний момент отказался, а я увидела билеты в БДТ, и сразу купила, а потом уже разглядывала, какая пьеса. В ней играют Стржельчик, Борисов, Демич, Басилашвили, Малеванная.
– Здорово, увидеть таких артистов! Какая же ты прелесть, Машенька.
– И время самое для тебя удачное: воскресенье вечером.
Алексей прижался к ней, она не противилась, не отталкивала, подняв руки, гладила его лицо, волосы на висках, от нее исходил родной запах: чистого тела с примесью духов, ее духов, которые он так любил. Он стал ее целовать, а она, приложив палец к его губам, вдруг спросила:
– У тебя был тяжелый день?
Он улыбнулся.
– От тебя ничего невозможно скрыть.
– За столько лет мне каждое движение твое знакомо. Могу по глазам определить, хорошо тебе или плохо.
– День, наверное, был такой же, как предыдущие, только добавился неприятный разговор с заместителем начальника главка, – ответил он жене. – Но рядом с тобой все тяжелое и плохое уходит.
Он поцеловал ее глаза, нос, щеки, прижался к ней. Ему было удивительно хорошо рядом с ней. За окном гасли одиночные огни, и темнота окутала дома, деревья, дороги. А у двух человек сердца стучали рядом, и светились счастьем глаза.
День Рождения
Завтра мне шестьдесят пять. Годы эти ушли от меня, словно на мягких кошачьих лапах, так тихо и стремительно, что я и не заметил. Странно. Куда ушли? Ведь жизнь моя началась только вчера!
Я открыл глаза и увидел кусочек нашей прекрасной сибирской природы: пронзительно-синее небо, высокий ангарский берег, а на берегу дом, где жила наша семья. Глухо шумела Ангара, о чем-то своем шелестела впадающая в нее речка Кеулька, а на меня внимательно смотрели три пары глаз: мамины и сестер – Милы и Капы. Не знаю, сколько мне было: месяц, два, три? Память выхватывает только отдельные картинки – яркие и радостные. Но самой первой, конечно, я увидел бабушку Степаниду с черными и корявыми от тяжкого крестьянского труда руками: это она принимала роды у моей матери, произведя увесистый шлепок в нужное место, отчего я громко заорал, оповещая жителей Кеуля о своем появлении на свет. Смотрите, вот он – Я, ваше продолжение, ваша надежда и опора!
Кто скажет, что так не бывает, ребенок не может помнить себя в грудном возрасте, советую прочесть воспоминания Бунина о Толстом, где он пишет, будто наш великий реалист Лев Николаевич утверждал, что хорошо помнит в длиннющей цепи буддийских перевоплощений время, когда он был козленком. Так далеко в прошлое я не заглядываю, однако картины моего младенчества я вспомнил через шестьдесят с лишком лет…
Вспомнил своенравную Ангару, нашу кормилицу и спасительницу, теплую колючую землю, по которой шлепал босиком, лавочку перед палисадником, где сидел и ждал с работы отца с матерью. Я не просто вспомнил все это – я это ощутил. Передать подобные ощущения непросто. Как расскажешь о той сладкой деревенской гармонии, когда от таежной тишины и чуть слышного пения птиц хочется плакать?
Мне года три. Лютый январь, за окном под пятьдесят градусов. Мы с сестрами на русской печке, огромной и теплой, внизу под нами трещат дрова в раскаленной чугунке, которую почему-то называют голландкой. Девчонки режут ножом картофель пополам и запекают на голландке. Ужасно хочется есть, я прошу, мне дают, но хочется больше, кричу от нетерпения, тяну руки, меня толкают, и я лечу вниз, прямо на раскаленную печь…

Тишина.
Все темно.
Очнулся: холодный воздух вокруг меня, я закутан в платки и шаль. Мама на руках несет меня, она бежит по улице, я слышу ее учащенное дыхание. В больнице опять провал, словно включают и выключают свет. Домой я вернулся через неделю. Снова среди своих, все радуются мне. На груди и подмышкой осталась память, вечная, на всю жизнь. Память о детстве, о голодном и бедном. Телогрейка, шапка с чужой головы, подшитые по нескольку раз валенки. Когда дети вырастали, все аккуратно складывалось для следующей смены.
После полета «на печку» случился еще более страшный полет.
Теплый летний день. Сестры идут на Илим за водой. Я знаю, они будут купаться. Мне тоже хочется купаться. Одному мне не разрешают заходить в воду, я еще не умею плавать. Сестры не хотят, чтобы я шел вместе с ними, видимо, не желают возиться, они отгоняют меня, заставляя идти домой. Я не слушаюсь, ковыляю босиком чуть поодаль. Вдруг какая-то темная неведомая сила стремительно отрывает меня от земли и кидает в небо. Я лечу к солнцу, словно мяч. Этот полет, сопровождаемый невыносимой болью, мне кажется вечностью, но все-таки он заканчивается. Прямо с небес я падаю на землю. Яркий солнечный день мгновенно превращается в ночь. Темно, и ни звука вокруг.
Очнулся на руках у мамы. Она целует меня, прижимая к себе. Слезы капают на мое лицо, я увертываюсь от них, прижимаюсь к ее груди. Мне больно, боль во всем теле, меня спрашивают, где болит, но я молчу, ничего не могу сказать. Бодучую корову уже загнали за изгородь, обломав об нее жердину, причем хозяин ревниво следил, чтобы животное ненароком не покалечили. Очень понятная крестьянская психология.
Я снова провалялся в больнице несколько недель. Мне нравилось здесь: лежу на чистой кровати, кормят неплохо и регулярно, я вместе с людьми.
Следы от рогов остались у меня надолго, но сейчас, когда скальпели хирургов прошли по моему телу уже несколько раз, найти их стало трудно. Да и зачем искать? Ясно одно: ничто не проходит бесследно, сегодняшние мои боли, возникающие неожиданно и днем, и ночью, могут быть отголосками тех самых злополучных «полетов».
…В десять лет для меня – новое испытание. Оказывается, моя фамилия вовсе не та, по которой все звали, а другая – Зарубин. Почему?
– Мама, расскажи об отце…
И слышу рассказ, и узнаю, что у меня много сводных сестер и братьев, я последний в этой длинной шеренге.
– Мама, почему они не с нами?
– Они уже взрослые, и я же им не мама.
– Как такое может быть? Мне ты мама, а им нет?
– В жизни может быть и не такое…
Позднее я встречал своих братьев и сестер, особого родства не почувствовал, видимо, кровь – не самое главное. А что главное? Совместная жизнь, радости и тревоги. Всегда быть готовым прийти на помощь, и, если надо, пожертвовать собой. Я рос, в общем-то, самостоятельно, старался быть взрослее, и каждый день, даже сам не понимая этого, учился у жизни: не врать маме, не совершать дурных поступков. Частенько я получал подзатыльники, иногда плакал, но не от боли, а от обиды. Всегда воевал с сестрами.
– Почему, – говорила мама, – ты делаешь это? Они ведь самые родные люди на всем белом свете.
На этот счет я был не согласен. Вот Володька Куклин или Ванька Качин, да даже Виталька Белобородов – роднее, они друзья, что надо.
Но относительно сестер мама оказалась права.
Мое детство закончилось семнадцатого июля шестидесятого года прошлого столетия. Мама умерла. Еще вчера было солнце, теплый свет голубых маминых глаз. Место под названием отчий дом, где всегда ждала меня доброта и чудесный мамин голос.
После смерти матери я узнал, что такое родные люди, которые на деле оказываются чужими. Многим родным не было до меня никакого дела, а чужие частенько помогали. Я был предоставлен сам себе и, конечно, как губка, впитывал «науку жизни». Все нужно было испытать, испробовать на себе. Однажды втроем мы забрались в вентиляционный ствол шахты – из любопытства. Сотни метров спускались вниз по металлическим скобам. Добрались до горизонтального штрека. Но как подняться наверх? Несколько часов ползли, помогая друг другу, отдыхали, привязываясь ремнями к скобам. Не передать, что испытали мы, поднявшись уже ночью наверх. До утра лежали на траве, никаких сил не было.
Случались забавы и пострашнее. Однако судьба была ко мне милостива: она не дала мне отправиться в «места, не столь отдаленные», не увлекла сомнительными предприятиями и не утащила в полуподвалы, где было весело, денежно и пьяно. Наверное, того запаса жизненных сил, которым меня в дорогу снабдила мама, мне хватило. И удача помогла: вовремя уехал учиться. Через несколько лет, побывав в этом городке, узнал, что многие мои приятели-одноклассники давно кочуют по «зонам», а несколько человек сгорели заживо в «вагонзаке» при перевозке их по этапу. Сейчас я твердо знаю: мама с небес помогала мне, наставляла, сопровождала и берегла.
Поступив в техникум, я остался совсем один. Изредка сестры присылали переводы из своих скудных доходов, стипендия маленькая, чтобы прожить на нее. Поэтому с первых дней учебы я искал работу. Любую. Вскопать огород, разгрузить машину, перерабатывать металлолом. Все время хотелось есть – это мой юный организм просил пополнять его силы. Все было расписано, учеба, работа, короткий сон.
Очень рано я заболел болезнью, которую называют – любовь.
Не знаю, что это такое, но жить без этого человека я уже не мог, мне без него было плохо физически. Это как воздухом не дышать. Все кругом изменилось, жизнь стала прекрасной. Сорок пять лет мы с моей любимой Ниной вместе. Я испытал великое счастье быть отцом, дедом. Иной раз в разговорах я слышу, что любить столько лет невозможно, что большую часть жизни люди проводят друг с другом по привычке. Видимо, это не про нас. Даже один день разлуки я переношу тяжело. Мне нужно быть всегда рядом: видеть ее лицо, слышать ее голос, держать ее руку в своей руке.
Может быть, лучшее, что я создал в жизни – семья. И мне опять повезло, я так и не узнал страшного слова «теща». Меня встретила мама, так похожая на мою собственную мать. Мудрую и добрую, помогавшую и советом, и делом. Я и звал ее мама. Иногда мы говорим, рассказывая о своей жизни, что всего добивались сами: работали, учились, рожали детей. Лукавим. Ну как одновременно по вечерам учиться, работая днем, и двоих девочек вырастить? Конечно, это мама, это ее труд помог, незаметный и нужный. Без нее трудно было бы нам бодро шагать по жизни.
Уже давно она ушла от нас. В памяти моей есть небольшой уголок, где собраны добрые слова, чувства, улыбки, предназначенные этой чудесной женщине. Очень жалею, что при ее жизни не сказал ей этих слов.
А несколько лет назад я заболел «по-настоящему». Причиной болезни вряд ли можно было назвать те давние детские травмы. Скорее, это были последствия моей профессии, связанной с бесконечными походами по стройкам: в дождь, в грязь, в морозы и жару, днем и ночью. Кашель и одышка не давали ходить. Мукой был подъем по лестнице к собственной квартире, хотя раньше я пролетал эти три этажа в шутку.
В клинике Первого медицинского мне предложили отдельную палату со всеми удобствами: санузел, ванная, телевизор, телефон и даже мини-кухня с холодильником. Признаться, меня это удивило: я помнил еще советские больницы, когда две кровати в комнате считались каким-то невероятным сервисом.
За неделю, напичкав мой бедный организм лекарствами под завязку, врачи поставили меня на ноги. Кашель прошел, одышка уменьшилась. Я уже ждал выписки, но лечащий врач попросила потерпеть несколько дней.
– Необходимо повторить некоторые анализы, чтобы поставить окончательный диагноз, – сказала она.
Через неделю пришел директор клиники, профессор – немолодой, совершенно седой человек, с острым, пронзительным взглядом. Сделав какие-то свои дежурные манипуляции, послушав дыхание со стороны спины и груди, постучав пальцами по лопаткам, проверив давление, профессор долго рассматривал рентгеновские снимки.
– Да, коллега, – наконец-то сказал он лечащему врачу, – вы правы.
Повернувшись ко мне, подытожил:
– У вас неприятнейшая болезнь, идиопатический фиброзный альвеолит.
Я попросил профессора объяснить столь мудреный термин по-простому, насколько возможно.
– По-простому, – профессор улыбнулся, – это будет примерно так. Представьте себе озеро с чистой водой, и в один прекрасный момент оно начинает зарастать камышом. Все меньше и меньше становится гладь воды, и наконец, озеро превращается в болото. Эта болезнь имеет такие же свойства: альвеолы зарастают фиброзными рубцами… Болезнь коварна, случаются и летальные исходы…







