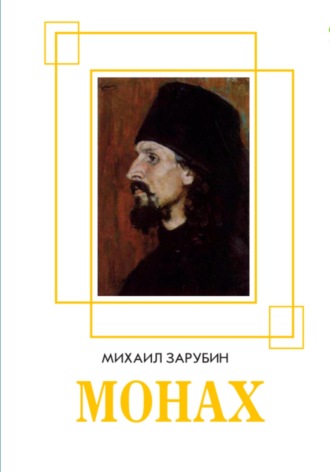
Михаил Константинович Зарубин
Монах
– Как же ее лечить, профессор?
– Будем подбирать лекарства, наблюдать, проводить процедуры… И надеяться, что смерть ваша наступит еще очень нескоро, и совсем от другой болезни…
Я не чувствовал ни боли, ни какого-либо неудобства, связанного с этой странной болезнью. Удивительно: болезнь смертельная, а ничего не болит. Но профессор не похож на шутника, и сейчас за окном июнь, а не рождественские святки.
Вспомнил Италию, на майские праздники мы с Ниной побывали там. Яркое солнце, теплое море. По вечерам мы прогуливались по улочкам Милана, Флоренции, Пизы, забредали в крохотные придорожные ресторанчики, ели пиццу, запивая сладеньким кьянти. Это было так недавно. Со мной что-то случилось: каждый день я признавался Нине в любви. Жена смеялась: «Это не я, а природа тебя возбуждает…»
Я не позволил этой страшной болячке сломить меня, овладеть моими мыслями, вселить в сердце тревогу, помешать мне работать и жить. Я сделал вид, что ее не существует…
Завтра мне шестьдесят пять. Для моего младшего внука это, вероятно, кажется вечностью. А для меня пролетевшие годы – маленькая песчинка в океане времени. И жизнь моя не закончена. Впереди планов «громадье», их нужно выполнить: построить дома, написать книги, увидеть далекие страны. Останавливаться нельзя. Автомобилисты хорошо знают: стоит одну только зиму не поездить на машине, да еще подержать на улице – можно готовить свою «ласточку» на металлолом.
А память опять уносит меня в детство. На русской печке, где было мое законное место, я зажигал керосиновую лампу и читал ночи напролет. Читал о героях войны, летчиках, сынах полков, пионерах, отдавших жизни за Родину. Я проживал героическую жизнь вместе с ними. А утром вставал на лыжи и по прямой, как стрела, лыжне бежал к Кулиге и Малой речке. О чем я думал в это время? Может быть, о том, что еще ничего не успел сделать в такой коротенькой жизни. Как жаль, что я родился так поздно, во времена совсем не героические…
Я и сейчас бегу по лыжне жизни, стараясь еще кое-что успеть. Я не хочу подводить итоги. Мне рано подводить итоги!
Я способен еще жить и любить. Любовь помогла мне преодолеть все трудности, ограждала от бед, освещала мой жизненный путь, непростой и извилистый. Я немало сделал в своей профессии, руководствуясь словами моего любимого поэта Евтушенко:
Требую с грузчика, с доктора,
С того, кто шьет мне пальто, —
Все надо делать здорово —
Это неважно, что!
Ничто не должно быть посредственно —
От здания и до галош.
Посредственность неестественна,
Как неестественна ложь.
Сами себе велите
Славу свою добыть.
Стыдно не быть великими.
Каждый им должен быть!
Завтра мне шестьдесят пять лет. А я только вчера появился на свет около быстрой речки Кеульки. Я открыл глаза и увидел кусочек нашей прекрасной сибирской природы: пронзительно-синее небо, высокий ангарский берег, а на берегу дом, где жила наша семья. Глухо шумела Ангара, о чем-то своем шелестела впадающая в нее речка, а на меня внимательно смотрели мамины глаза…
Долгая дорога к маме

1
В доме Анны Карнауховой проснулись рано. Кроме четырнадцатилетнего Мишки, который спал на сеновале.
Сама Анна уже и не помнила, когда нормально отдыхала. Сильнейшие боли не давали покоя ни днем, ни ночью. Иногда, в промежутках между приступами, ей удавалось забыться, но это случалось все реже и реже. Жила вдвоем с сыном, дочери вышли замуж и разлетелись из дома, счастливые даже не от замужества, а от возможности освободиться от колхозного крепостного права и получить в сельсовете паспорт, который многие деревенские жители никогда не видели.
Деревня Погодаева стояла на берегу Илима. Сорок домов вытянулись цепочкой вдоль реки, и только два или три стояли на отшибе. У Карнауховых собственного жилья не было, ютились в прирубленной части к добротному дому Харитины Перетолчиной. Но Мишка не испытывал неудобства от этого. Он любил свой дом, стоящий на краю деревни. Летом прямо из окон любовался огромным полем золотой пшеницы, которое переливалось на солнце и от малейшего ветерка становилось похожим на огромное море. В своей недолгой четырнадцатилетней жизни Мишка, единственный из деревни, уже побывал на море: его, как лучшего ученика в районе, в прошлом году посылали в Артек.
Зимой он прямо со двора убегал на лыжах к Кулиге. Лыжню делал прямой, без изгибов и крутых поворотов, и почти каждый день нарезал по ней круги, тренируя тело и воспитывая волю. Знал окрестности своей деревни на десятки километров вокруг: где в изобилии водятся грузди и рыжики, где растет крупная и сладкая малина, а куда и вовсе соваться не следует – можно встретиться с «хозяином тайги», и не факт, что сумеешь от него убежать.
Особенно он любил речку. Илим, веками бежавший к Ангаре, делавший столько поворотов, петель, зигзагов, что вряд ли сосчитаешь, перед Погодаевой выравнивался, становился широким и полноводным, а уже за деревней, ударившись в лоб Красного Яра, поворачивал почти под девяносто градусов, и дальше вновь начинал петлять.
– Мила! – позвала Анна дочь.
– Что, мама?
– Разбуди Мишаню, пора.
Но Мишка уже входил в дом, успев умыться под умывальником во дворе.
– Здравствуйте всем, – степенно сказал он сестрам и матери, которую уже привели в порядок: умыли, причесали, надели новую кофту и, усадив на кровать, пододвинули к ней стол, где стоял нехитрый деревенский завтрак.
Мать таяла на глазах. Сестры приехали, чтобы ухаживать за ней, и, как говорили в деревне, «проводить по-людски». Чем-то страшным, необратимым веяло от этих слов, и Мишкино сердце сжималось от тоски и безнадежности. Мила, родившая два месяца назад дочку, приехала из Иркутска, а Капа добралась из низовьев Ангары, где ее муж работал в экспедиции.
Завтракали молча, украдкой поглядывая на мать, не желая даже взглядом напоминать ей о страшной болезни. Все, в том числе и она, знали, что болезнь эту не победить, но все равно каждый надеялся на чудо.
Медсестра, которая приходила делать матери уколы, под большим «секретом» сообщила Мишке, что его мама умирает, и ему надо набраться мужества и терпения. От неожиданности он выронил стакан чая, который подавал медсестре. Он хотел закричать на нее, оскорбить ее, обозвать последними словами, но сдержался. Он не поверил ее словам. Он видел, что мать с каждым днем слабела, черты лица ее заострялись. Синие большие глаза побледнели, светлые густые волосы, которые она заплетала в косу, поредели и почему-то потемнели. Ей было трудно говорить, чистый, как родник голос, который он так любил слушать, стал слабым, надтреснутым. Из груди вырывались не слова, а хрипы, она долго прокашливалась, вытирая губы платком. Маленькие руки с длинными тонкими пальцами пожелтели и стали прозрачными, как пергамент.
Мать никогда не была дородной, как большинство деревенских женщин. Для Мишки она была эталоном красоты. Среднего роста, худощавая, с правильными чертами лица: прямой нос с чуть заметной горбинкой, голубые глаза, роскошные пшеничные волосы. В колхозе она не отказывалась ни от какой работы: была дояркой, жала хлеб, ухаживала за курами на ферме, пасла коров. Все домашнее хозяйство, разумеется, было на ней. И при этом каторжном труде у нее были удивительно красивые руки, стройная фигура, которую не портили даже телогрейка и сапоги. Наоборот, они только подчеркивали ее красоту.
Взгляд ее буквально светился добротой, рядом с ней было уютно и тепло. Некоторые деревенские бабы побаивались ее. Вероятно, оттого, что она никогда не ругалась, как они, грязно, с криками и матом, призывая в помощь всех святых и самого господа Бога.
Мишка видел, как мужики заглядывались на нее, и тогда его охватывал страх. Он боялся, что в ее взгляде промелькнет какая-то заинтересованность – в его глазах это было равносильно предательству. Некоторые приходили свататься, но мать всем отказывала, чему он был несказанно рад.
Она говорила ему: «Ты у меня самый лучший мужчина…» – и прижимала его большую голову к своей груди, и он вдыхал такой родной, вкусный, привычный запах, исходивший от ее тела. Это же была его мама! Как она могла умереть? Одна мысль о том, что он может остаться без нее, приводила его в отчаяние. Пытаясь во всем угодить больной матери, Мишка наивно надеялся, что однажды утром он проснется, и все будет, как прежде.
Он не понимал еще чувства любви, но неодолимая тяга к матери была первым ростком в его душе. Он учился у нее, как держать себя в присутствии старших, как отвечать, не быть злым, хотя иногда так хотелось крикнуть тяжелые слова в лицо обидчику, чтобы они задели его за живое, и ему было бы так же больно. Улица всегда имеет влияние на детскую психику, улица – это образец подражания, это узнавание всего того, что вокруг и хорошего, и плохого. Конечно, встречи с ребятами оставляли след. След не всегда хороший.
Но, получая заряд негативной энергии, он всегда разряжался рядом с мамой, она находила слова, которые удивительным образом действовали успокаивающее и гасили возникшие страсти. Дом был местом, куда всегда хотелось придти, там было душевное тепло, согревающее и вылечивающее. Он так много разговаривал с ней, обычно это было по вечерам, когда они гасили керосиновую лампу и под свет луны вели долгие разговоры о жизни. Он даже не задумывался о том, как может неграмотная женщина знать столько, знаний ее хватало, чтобы полюбить мир вокруг, землю, свою деревню. Рассказы ее были образны, слова сочны. Если шел разговор о людях, он по едва уловимым приметам узнавал их, если о местности, ей хватало несколько образов, и он видел Тушаму или Россоху. Он не удивлялся этому, для него и не могло быть иначе. Материнские рассказы были для него открытием мира, в котором ему предстояло жить, без них бы жизнь вокруг становилась тусклой. Он постоянно испытывал радость от узнавания, нет, не удивление, а радость. Это становилось нормой жизни. Конечно, он понимал, что сестры приехали не зря. Если бы мама могла выкарабкаться из когтей ненавистной болезни, вряд ли бы они бросили своих мужей.
А сейчас пришла пора расставания. Мишку отправляли на областной пионерский слет в Иркутск. Вот мать и уговорила его воспользоваться оказией и навестить старшего брата, что жил в Черемхово, шахтерском городке в ста километрах от областного центра. Ранней весной он приезжал в Погодаеву, тогда они с матерью решили судьбу Мишки. Ехать в Иркутск и Черемхово он был не против, однако хотел вернуться назад. Ему не представлялось жизни без мамы. Она просила хотя бы лето прожить у брата, а там будет видно. На том и порешили, каждый думая о своем. Он считал себя взрослым парнем, способным выполнить любую работу, и надеялся вернуться к осени, чтобы учиться, ухаживать за матерью, доить корову и делать другие дела по хозяйству. Мать же рассчитывала, что пока жива, нужно устроить его, так как не стань ее, думать о сыне будет некому, и попадет парень в детдом.
Завтрак закончился, сестры собрали посуду, поставили стол на место. Мама, устав находиться в неудобной позе, прилегла, попросив его присесть рядом с ней. Он сел, взял ее руку, положив ладошки сверху и снизу, чтобы ей не было больно держать свою. Он смотрел на родное лицо, говорить не было сил, к горлу накатывал комок, на глазах выступала противная влага. Понимая, что он может сейчас разреветься, он осторожно положил мамину руку на одеяло и встал у окна.
Перед ним во всю свою могучую ширь раскинулось зеленое погодаевское поле. Пройдет месяца два, и заколосится пшеница на нем, сияя солнечной красотой и удивляя всех урожаем. Чуть впереди стена леса, который на сотни километров убегает в синюю даль, сначала к Качинской сопке, затем к Шальновскому хребту, а потом еще дальше и дальше, где Мишка никогда не бывал.
Слева навис Красный Яр, почти вертикальная стена над рекой, он прикрывал деревню от северных ветров, был ее защитой.
– Миша, – позвала мама.
Он быстро сел, взглянув на мать, погладил ее руку.
– Прости меня, мама.
– Это ты меня прости, сынок, что не вырастила тебя.
– Опять ты, мама, не надо. Уверен, что ты поправишься, и я вернусь, только зря расстаюсь с тобой.
Мать посмотрела и улыбнулась.
– Отправляю тебя в такую даль, береги себя, по дороге не выскакивай на станциях.
– Мама, ты ведь знаешь, что я уже всю страну объехал, когда добирался в Крым.
– Тогда ты был не один, у вас старшие были.
– Не бойся, мама, я буду внимателен.
Она погладила его руку, прижалась к ней щекой, и слезы полились ручьем из ее глаз. Мишка осторожно высвободил руку, взял платок и обтер лицо.
– Спасибо, – и слезы вновь полились из ее глаз.
Он молчал, смотрел на мокрое родное лицо, на покрасневшие глаза, понимая, что слова не успокоят ее. Ему захотелось кричать от нестерпимой боли, возникшей у него в груди. Он встал на колени, положил голову на грудь матери, она гладила ее тонкими холодными пальцами, хотела дотянуться поцеловать, но сил не хватило и еле слышно прозвучали ее слова, как заклинание:
– Прости меня, прости.
В дом вошла Мила.
– Миша, нужно идти, самолет ждать не будет.
Он поднял голову, посмотрел в лицо матери, ее глаза смотрели прямо в его глаза. Потом она улыбнулась.
– Пора, сынок. Береги себя, как приедешь, сразу напиши мне письмо, я буду ждать весточки.
Он попытался что-то сказать, не смог и вдруг неожиданно для себя расплакался, ему стало стыдно, он выбежал в сени, прижался к стене за кадушкой с водой. Сестра обняла его:
– Не плачь, Миша, матери будет тяжело, иди попрощайся, – она вытерла ему слезы. Он снова вошел в дом, подошел к матери, поцеловал ее в губы, потом прижался к рукам, целуя их:
– До свидания, мама!
– До свидания, – тихо ответила мать, – будь осторожен, береги себя.
Мила взяла его за плечи, но он не дал ей развернуть себя спиной к матери, неловко ступая до самой двери, все смотрел на родное лицо, на чуть приподнятую руку, на добрую родную улыбку.
Уже во дворе он немного успокоился, прошел в огород, дошел до межи, отделяющий огород от колхозного поля, обратил внимание, что по дороге, ведущей в лес, появились столбы пыли. «Значит, люди выехали работать», – мелькнула мысль. Солнце поднялось над высокой Ждановской сопкой и стало пригревать. Все вокруг было знакомо. Каждая тропинка и дорожка вели в заповедные места, где он рос, собирая ягоды и грибы, возил копны сена на сенокосе, рыбачил, пас коров, с ребятами ездил в ночное, где у костра велись долгие разговоры, пока звездное небо не успокаивало их, и они мгновенно отрубались, порой засыпая в тех же позах, в которых еще сидели минуту назад. Все отрывалось от него, впереди ждал мир незнакомый, его хотелось увидеть, побывать в нем. Не в кино, а наяву увидеть паровоз, трамвай, троллейбус, высокие дома, красивые улицы. Но одна мысль, что рядом не будет мамы, приводила его в замешательство, и ему уже никуда не хотелось. Нить, связывающая их, была настолько прочной, что обрыв ее для обоих был смертелен.
– Мишаня, нужно ехать.
Мила взяла его за руку и повела по проулку к реке.
Его любимая лодка покачивалась у лавницы. Сестра положила вещи, сама села посередине, а Мишка, отталкиваясь длинным веслом, повел лодку против течения. У берега течение было слабым, и лодка быстро побежала вперед. Мила молчала, Мишка тоже, сил для разговора не было, мысли путались в голове, хаотично сменяя одна другую. То он с жалостью думал о матери, и тут же радовался, что полетит на самолете. Жалел, что не поедет в этом году на сенокос. Сейчас он бы косил наравне с мужиками! Он даже представлял, как свежая, сочная трава под его косой ложится ровным рядком на зеленом покрывале, расположенном вдоль берега таежной речки Тушамы. И тут же в голове возникала другая картина, в городе он пойдет в цирк и увидит настоящего слона. Он гнал от себя эти мысли, заставляя себя думать о матери, о ее болезни. Как она там сейчас? Наверное, плачет. И опять перед ним рисовались соблазнительные картины города, куда он едет. Все крутилось и вертелось, как на городской карусели, и было трудно думать о чем-то одном.
Переплыли Илим, пристали к берегу у скобяного магазина.
– Не забывай нас, Мишаня, осенью встретимся. Смотри там, в городе… И письма пиши, мать будет ждать…
Взяв свой маленький фибровый чемоданчик, Мишка пошел в школу, где собиралась вся группа для поездки на областной слет. Он шел по центральной улице, такой знакомой и родной. Вот красивый двухэтажный дом, где располагался райисполком. Вот небольшое здание почты, в зимние дни они с приятелем отогревались здесь перед окончательным броском к дому. Рядом с почтой, чуть в глубине, чайная. Она притягивала к себе необыкновенно вкусным запахом выпечки, столами, покрытыми вышитыми белыми скатертями, и макаронами, экономно политыми ложечкой сливочного масла. За чайной, в самом центре села – Дом культуры. Это был, без преувеличения, центр мироздания. Все, самое значимое, дорогое и радостное в жизни селян, проходило именно здесь. Праздничные концерты и театральные постановки, в которых Мишка непременно участвовал, кинокартины, танцы, собрания… Каждый день сюда стремились люди.
Мишкины ботинки стучали по деревянному тротуару. Все оставалось позади: мама, река Илим, село и деревня, где прошли детские годы.
Самолет Ли-2, разбежавшись по грунтовой полосе, взлетел и сделал круг над деревней. Мишка в иллюминатор увидел свой дом. Отсюда, с высоты, все казалось маленьким, игрушечным. Дом стоял на краю деревни, справа пылила дорога, и он хорошо видел несколько повозок, едущих на Малую речку. Да и вся деревня – как на ладони. От домов к реке спускались тропинки. В воде стояли лавницы, к каждой из них была привязана лодка… Он разглядел и свою лодку. «Мила уже дома» – подумал он. У Малой речки Илим делал крутой поворот и мимо крутого песчаного берега бежал к Ангаре. Вот еще раз самолет сделал круг над селом и деревней. Мишка смотрел в иллюминатор, стараясь запомнить в мельчайших подробностях картины родных мест.
Наконец, самолет выровнялся, и на сотни километров потянулась тайга с редкими зимовьями. Она казалась такой огромной и бесконечной, что не верилось в то, что рано или поздно она закончится, расступится, и большой, красивый город Иркутск встретит их.
Он еще некоторое время смотрел вниз, а потом стал прислушиваться к своим сверстникам. Несмотря на шум мотора, все громко разговаривали, стараясь перекричать гул двигателя, радостно делились впечатлениями. Вскоре и это прошло. Все сидели тихо, каждый думал о чем-то своем…
2
Месяц жил Мишка у брата в маленьком шахтерском городке под Иркутском. Городок, объединивший несколько шахтерских поселков в одно целое, был зеленым и красивым. Деревья росли между бывшими населенными пунктами, деля их на микрорайоны с многоэтажными домами. Частный сектор представлял собой сплошное море зеленых насаждений, из-за которых не видно было даже крыш. Бывшие поселки объединяла асфальтированная дорога, она же – центральная улица города. Она же была частью Московского тракта; в праздники колонны демонстрантов шли по ней к площади, где стоял памятник Ильичу, а по вечерам улица служила любимым местом прогулок местной молодежи. Здесь знакомились, влюблялись, демонстрировали обновки, сплетничали, дрались – словом, шла обычная уличная провинциальная жизнь.
Каждый квартал-поселок мог существовать автономно, там была собственная, как сказали бы сейчас, инфраструктура: больница, кинотеатр, школа, магазин. В центральной части города стояли общегородские постройки: горком партии, техникум, филиал института.
Транссибирская магистраль не разрезала город надвое, как часто бывало в сибирских городах, а проходила сбоку. Электрички останавливались в каждом поселке, что было большим подспорьем для местных жителей. Шахт в городе было много, все они соединялись друг с другом и с центральным вокзалом железнодорожными путями, по которым беспрерывно сновали паровозы: пыхтящие, чумазые, изрыгающие клубы черного дыма. Да что там дым, из труб паровозов вылетали вместе с искрами и кусочки горящего угля. Все железнодорожные пути и окрестности всегда были покрыты слоем угольной копоти, и даже ливневые дожди не могли смыть ее.
Переулочки, ведущие к центральной дороге, всегда пересекали подъездные пути и человек, уходящий из дома в белой рубашке, возвращался в серой. Особенно трудно было пережить это девчонкам, бегущим в клуб на танцы.
Удивляло большое количество стадионов. Не просто спортплощадок, а настоящих стадионов с трибунами для зрителей и хорошим покрытием. В Черемхово их было несколько, в каждой шахте и разрезе. Они никогда не пустовали. Мишка участвовал в спортивных баталиях с первого дня приезда. В основном это был футбол, но и в городках, и в волейболе он не был последним.
Но самое большое впечатление на него произвел городской парк. Ему, таежному жителю, привыкшему к дикой, естественной природе, было странно видеть среди лесного массива аккуратные, посыпанные песком дорожки, лодочную станцию на пруду, концертную площадку со сценой-раковиной и скамейками. Но больше всего его поразили качели. Деревенские по сравнению с этими были игрушечными.
Не было такого дня, чтобы Мишка не побывал в парке, не посидел бы на скамейке, не покатался на качелях. В большой беседке он наблюдал шахматные баталии, любил бывать на концертах местных артистов-любителей. Бывало, заезжали и столичные гастролеры.
Он вспоминал деревню, но жизнь его была такой насыщенной, что часто он забывал о ней совершенно, и только перед сном вспоминал свой двор, сеновал, огород, который в этом году стоял пустой, невскопанный, и наверно, весь зарос сорняками и крапивой. Вспоминал маму, ее исхудавшие руки и добрые глаза. Каждую неделю он писал домой письма, рассказывал о своей новой городской жизни, спрашивал о здоровье, но ответов не получал. Каждый день он подбегал к почтовому ящику, но кроме газет и разных официальных писем для брата там ничего не было.
Брата Мишка видел редко. Он работал бригадиром навалоотбойщиков и одновременно был депутатом и членом горкома партии, и еще куда-то входил, и обязан был где-то присутствовать.
В доме хозяйничала жена брата. Мишка удивлялся, как эту некрасивую, шипящую, словно гусыня, женщину, мог выбрать Николай? Все в ней было отвратительным: выпученные глаза и белесые ресницы, толстый мясистый нос и слюнявый, никогда не закрывающийся рот. Говорила она громко и непрерывно, слова вылетали каркающие и пронзительные, однако понять, о чем она говорит, было затруднительно. Мишка давно заметил: у некрасивых людей почти всегда паршивый характер, они злы, недовольны всем, завистливы. Все это в полной мере относилось и к жене брата. Профессии у нее не было, она никогда и нигде не работала. Приехала из Москвы в Сибирь, к своим дальним родственникам, чтобы найти себе мужа. Нашла. Но почему мужем оказался его брат, Мишка так и не понял. Однако сразу, с первых же минут общения почувствовал жгучую ненависть свояченицы к себе. Он пытался не обращать на это внимания, болтаясь с новыми друзьями по бесконечно длинным улицам городка, придумывая себе занятия и развлечения. В жаркие дни они убегали на карьеры, где были удивительно чистые озера с родниковой водой, и купались до посинения. Никогда еще Мишка не купался так много – в холодных сибирских реках, таких, как Илим, не очень-то покупаешься. Вечером в его адрес звучала отборная брань. Каждое утро свояченица давала ему кучу заданий и поручений, выполнить которые было практически невозможно. Выйти из дома разрешалось только после выполнения всех заданий.
Он убегал, не обращая внимания на крики свояченицы – он быстро привык к ее ругани, относился к этому терпеливо-презрительно, чем приводил хозяйку в бешенство. Но жизнь вокруг была настолько хороша, что даже злобная свояченица не могла ее испортить. Оставаясь один, Мишка философски говорил сам себе:
– Ну, не может же все быть хорошо…
Семнадцатого июля (он навсегда запомнил эту дату!), в пять часов утра его подняла с постели неведомая сила. Никогда, даже в деревне, Мишка не поднимался в такую рань, а уж если возникала такая необходимость, то его будили всей семьей, даже брызгали на него холодной водой. А здесь он сам открыл глаза, сон как рукой сняло. Не одеваясь, вышел на крыльцо.
Нежно розовел горизонт. Плыла тонкая, прозрачная вуаль утреннего тумана. Мишка сел на крылечке, положил голову на резные перильца, и задремал. Он не видел, как первые лучи солнца осветили сонный городок, проникая в просторные дома и тесные бараки. Солнце поднималось все выше, и наконец засверкало, отражаясь в стеклах многоэтажных домов и слюдяных прожилках породы, выброшенной в огромные горы – терриконы.
Сладко пахли цветы, сладковато-приторный запах пропитал все вокруг. Где-то вдалеке выводил свою трель соловей. Теплые лучи разбудили спящего голубя, тихо дремавшего на веточке старого тополя. Облака растворились, за легкой линией горизонта уже показался огненный шар.
Солнце светило все ярче и ярче, постепенно выбираясь из-за горизонта, птичий гомон усиливался.
Во сне Мишка не слышал начала дня: криков петухов, гулких ударов копра, забивающего сваи около центральной электростанции. Днем шума стройки не было слышно из-за бегающих туда-сюда кричащих паровозов, но по утрам удары копра разносились окрест на несколько километров.
Он спал, обняв перила крылечка, не испытывая неудобств, как вдруг почувствовал, что кто-то рядом присел на ступеньку, обнял его за плечи и поцеловал в висок. Мишка удивился – кто бы это мог быть? Он открыл глаза. Никого не было. Теплые лучи согревали его, он прикрыл веки и снова провалился в дремоту. И снова кто-то поцеловал его в висок. Так всегда делала мама. «Может, это сон? – подумал Мишка. – Ну, конечно, я сплю и чувствую все это. Разве может быть здесь мама? Она так далеко». Но тут он почувствовал на своих плечах чьи-то теплые руки, услышал легкое дыхание.
– Мама, это ты? – спросил Мишка.
– Здравствуй, Мишаня, – голос прозвучал тихо, но настолько явственно, что все ему стало ясно. Этот голос он узнал бы из миллионов других.
– Мама! – тихо позвал он.
– Я здесь, Миша, здесь…
– Но я не вижу тебя.
– А ты и не можешь меня увидеть.
– Почему?
– Потому что я уже умерла, и сейчас нахожусь очень далеко, на том свете. Но я так просила Всевышнего повидаться с тобой, что он смилостивился. И вот я здесь. Я тебя вижу, а ты меня – нет…
– Да что ты, мама, все это сказки. Нет никакого того света, и никакого всевышнего нет.
– Давай не будем об этом. Какое счастье, что я тебя увидела! Я чувствую себя виноватой, что не сумела поставить тебя на ноги, оставила беспомощным мальчишкой. Болезнь оказалась сильнее. Но ты знай – в трудные минуты жизни я буду рядом.
– Я не верю в сказки, мама.
– Как тебе живется у брата, Миша?
– Не могу привыкнуть. Вхожу в дом, а тебя в нем нет. Только эта гадюка, свояченица. Днем еще ничего, когда убегаю из дома, а по вечерам крики, ругань. Не знаю, как мне жить.
– А что же Николай? Неужели он не может дать укорот своей жене? Он-то хоть знает, как она к тебе относится?
– Я его почти не вижу. Я так решил: закончу восемь классов, поступлю в строительный техникум, в Иркутске. Закончу, буду работать, а потом в институт. Ты же знаешь, в школе я был лучшим учеником…
– Знаю, сынок. Я всегда тобой гордилась. Береги себя, и меня не забывай…
Мишка открыл глаза и сразу закрыл их, настолько ослепительным было солнце. Он встал, держась за перильца и, повернувшись спиной к солнцу, внимательно осмотрел крыльцо. Ничего необычного не было в этом крыльце. Тогда он тихо позвал:
– Мама!
Тишина. Но ведь только что, мгновение назад он разговаривал с ней. Растерянно он прошел по дорожке к летней кухне и там несколько раз позвал маму. Никакого ответа. Он вошел в дом, разбудил брата.
– Коля, мама умерла.
Брат спросонья переспросил:
– Какая мама?
– А у нас что, две мамы?.
– Что это ты придумал?
– Она только что была здесь.
Николай с изумлением и тревогой вглядывался в лицо младшего брата, вероятно, пытаясь разглядеть в нем признаки безумия.
– Она была здесь. Мы сидели на крыльце, разговаривали, но я не видел ее. Узнал ее по голосу. Она сказала, что всех, кто на том свете, увидеть невозможно.
– Может, тебе это приснилось?
– Я разговаривал с мамой, – упрямо повторил Мишка.
Невестка тоже проснулась, при последних Мишкиных словах повертела пальцем у виска. Мишка пошел к себе в комнату.
В полдень почтальон принес телеграмму, в ней было три слова: «Мама умерла ночью».
3
Тридцать лет он прожил в Питере. Совершенно случайно оказавшись в этом городе, он прижился в нем. И хотя работа занимала большую часть суток, он находил время полюбоваться этим удивительным созданием архитектурной мысли, его улицами и площадями. Он гулял по Английской и Дворцовой набережным, мимо площадей, вытянутых вдоль Невы, окруженных царскими дворцами и государственными учреждениями, и не переставал удивляться пышности и великолепию «Северной Венеции», как принято было называть этот город.
Жить в Питере, особенно в первые годы, было трудно. Он скучал по яркому сибирскому солнцу, по своим землякам-сибирякам, общительным и понятным, по чистым сибирским рекам. Низкие темные облака, сырость, постоянные дожди – все это давило, заставляло постоянно вспоминать край своего детства и юности. Да и люди здесь были более замкнутые, обособленные, ревниво оберегающие свой внутренний мир.
Питер – это два города. Исторический и обыкновенный, типовой, каких сотни. Типовые для простоты называют «спальными районами». Вначале и он жил в таком районе, а через несколько лет переехал в центр, в настоящий Петербург. Жить в исторической части города тоже нелегко, как будто живешь в музее, всегда на обозрении. В спальных районах – большая скученность и масса неудобств. Чего стоит одна дорога до дому! Однако он не задумывался об этом – не было времени. Главным смыслом его жизни была работа.
В Сибири он выучился на строителя и своим упорством и настойчивостью многого добился в профессии. Ему стали поручать все более ответственные объекты. Они хоть и находились в городской черте, но были прикрыты от людского взгляда. Все они строились для того, чтобы выпускать продукцию оборонного назначения. Он гордился подобным доверием, хотя мало кто знал, какой ценой достаются ему эти успехи… Дома его не видели сутками. Но это сверхнапряжение делало его сильным, выносливым и уверенным в себе человеком. Он поднимался по служебной лестнице, но каждая последующая ступенька давалась все тяжелее. Пришло время, когда ему доверили руководить крупнейшим коллективом, выполнявшим самые ответственные задачи. Жить он стал на работе, а с родными встречался по большим праздникам. Надо отдать должное его любимой жене Нине, которая понимала его и заботилась о нем.







