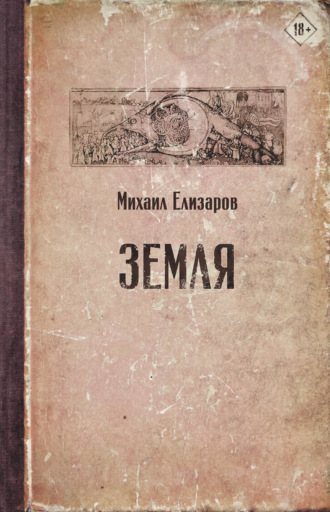
Михаил Елизаров
Земля
– Все хотят потанцева-ать с тобо-ой!..
Ловкий Цыбин сам сориентировался – пристроился топтаться возле главной бухгалтерши Ирины. Давидко увильнул от объятий второй бухгалтерши и прямиком рванул к тарелкам с бутербродами.
Возле стола с выпивкой праздновала контракт мужская половина. Я узнал генерального Евстигнеева. Он бывал у нас в части – такой увесистый коммерс. Красивое его лицо портил второй подбородок. Евстигнеев произносил тост, чокался с Потапенко, Колей-прорабом и геодезистом.
Тут всё было понятно и незамысловато. Отдыхали взрослые люди, веселились как умели: танцевали, пьянели, смеялись. В отличие от ужасающей вечеринки в ночном клубе, мне сразу нашлось место. Я был гостем, юным служивым, которому нужно налить рюмку и сказать что-то приятное.
Евстигнеев прочёл под бабьи аплодисменты:
– Терпи, браток, наступит дембель, не будет лычек и погон! И будем мы в общаге женской бухать, как прежде, самогон!..
Толстяку-геодезисту тоже нашлось что вспомнить:
– Хотим мы так на свете жить, как вождь великий жил. И так же в армии служить, как Ленин в ней служил!..
Посмеялись. А Коля-прораб задумчиво сказал, что если “Ленин” заменить на “Гитлер”, то шутка обретёт иной смысл, ведь Гитлер-то воевал, и неплохо, заслужил два Железных креста.
Мне плеснули в пластиковый стаканчик виски, я выпил с Евстигнеевым, Потапенко, Колей и тучным геодезистом за армию – кузницу настоящих мужиков. А когда к столу подтянулись юридический консультант Валера, менеджер по персоналу Юрченко и инженер по проектно-сметной работе Денис Геннадьевич, мы подняли стаканчики за успех и процветание “БелКомСтроя”.
Курьер доставил десяток коробок с пиццей. Начальник строительного участка (я его видел пару раз на пустыре) принёс из директорского кабинета два ящика коньяку.
Бухгалтерши Света и Ирина в который раз обновили на столе нарезки колбасы, ветчины и сыра, крабовый салат, маринованные овощи, корейскую морковку. Пластиковые коробки с едой бухгалтерша Света, похожая на хозяйку придорожной корчмы, называла “судочки”. Аппетитно оглашала:
– А вот ещё судочек с оливьешкой!..
Мне нравился такой формат праздника – простой, шумный балаган. Буквально через полчаса под ногами уже похрустывали обронённые одноразовые вилки. Пляшущий, как медведь, Потапенко смахнул рукой двухлитровую фанту, она кружилась на полу, клокоча оранжевой струёй. Разбили графин, и грудастая Алла, секретарша Евстигнеева, побежала в подсобку за веником.
Я взял мягкий ломтик пиццы, подхватил языком длинную сырную нитку… А потом увидел Юлю. Она выглядела как Дюймовочка среди пляшущих насекомых. Хрупкая, светленькая. Мне ужасно понравились и юбка, похожая на перевёрнутый бутон синей гвоздики, и колготки, подчёркивающие худобу и стройность ног, и коротенькая полудетская кофточка. Но особенно взволновали и умилили меня голубые гетры – словно бы две гусеницы заглатывали мохнатыми вязаными ртами чёрные высокие туфельки.
Из-за близорукости я не мог хорошо разглядеть Юлиного лица, поэтому шаг за шагом подкрадывался поближе. Ей что-то шепнула, пробегая, Алла, я услышал смех – будто зазвенел треснувший, хрипловатый колокольчик.
Рассмотрел. Хищное, кошачье личико. Она крутила в пальцах пустой стаканчик, и я решил воспользоваться моментом. Выпитый виски прибавил храбрости.
Подошёл и галантно спросил: что ей налить? Она строго глянула на меня:
– Не отвлекай, я думаю!..
Голосок оказался под стать образу: писклявый, мяукающий, как из мультика.
Я стеснительно отступил. Она вскинула на меня свои голубые глаза:
– А чего не спрашиваешь, о чём я думаю?
Покорно поинтересовался:
– О чём?
– О том, какие у меня прикольные ноги! – посмотрела вниз. – Правда, красивые?
Я, глядя на гетры, пробормотал:
– Очень…
Улыбнулась:
– Ну тогда принеси вот на столечко, – показала, – виски, а остальное кола!
Я узнал, что её зовут Юля, хотя вообще-то на работе она Юлия Сергеевна, помощница инженера по проектно-сметной работе. Предположил, что ей лет двадцать пять, но выражение лица у неё было как у предельно распущенной старшеклассницы.
Мне показалось, Юле будет приятно, если я начну расспрашивать её о профессии:
– А сметчица – это как? Что именно вы делаете?
– Я? – подняла удивленные, домиком, бровки. – Нихрена не делаю! Там же мозги нужно иметь, чтоб всё калькулировать. Это у нас Денис Геннадьевич, – кивнула на инженера.
Тот развлекал белкомстроевских тёток – запрокинув лицо, пытался удержать на лбу пластиковый стаканчик, балансировал туловищем, как заворожённая кобра.
– Я тут больше функции второго секретаря выполняю, когда Алла зашивается. А Денис Геннадьевич сметы составляет… – Дёрнула плечиком. – Что тут непонятного? Вот, допустим, выиграли мы тендер. И не потому выиграли, что такие классные. Просто наш Евстигнеев – зять зама белгородского главы!.. Хорошо, заключили с нами договор… А один из поставщиков цены поднял – и всё! Надо пересчитывать, удорожание получилось. Хотя в смете предусмотрены всегда и удорожание, и инфляция… Кирпич, к примеру, не могут подвезти в установленные сроки. Тогда срочно ищем другого поставщика, но там всё в два раза дороже. Значит, смету надо переделывать, заново согласовывать с администрацией… Нальёшь?
Я сбегал за новой порцией виски с колой. Украдкой глянул на моих разомлевших от сытости бойцов. Послушал, как Потапенко читает навзрыд:
– Ты глядишь на меня так устало, в глазах твоих холод и грусть… Хочешь, я тебе из устава прочту что-нибудь наизусть?!
Принёс. Юля игриво посмотрела:
– Володя, скажи, а ты всегда такой серьёзный, да? С каменным лицом, без тени улыбки?
– Ну, тень улыбки, безусловно, бывает!
Я был в восторге от своего ответа. Он казался мне очень изящным.
– А вот у меня депра постоянная… – вздохнула.
– Депра?
– Ну, депрессия. Болею своим прошлым! Такое мучительное одиночество, в которое ты никого не можешь впустить…
– Понимаю… – вдумчиво покивал я.
Она вдруг рассмеялась колючими, злыми колокольчиками:
– Понимает он! Какой понятливый! – Сделала долгий глоток. Укоризненно посмотрела: – Володя, ну вот что ты мне по три капли носишь! Налей нормально!..
Я метнулся к столу. Подумал. И поменял пропорцию: напёрсток колы, а остальное – виски.
Вернулся, протянул Юле полный стаканчик.
– Ой, так круто, ты слушаешь, не перебиваешь! – радостно промяукала. – Тебе правда интересна чужая личная жизнь?.. Короче! Малому моему, Стаське, годик исполнился. Припёрся дорогой свёкор, Валерий Александрович, седовласый мудачина. Ну, и свекровь Елизавета Андреевна. За неё не чокаясь…
В Юлиных глазах вспыхивали бесовские искорки. Она трещала без умолку, погружаясь в пучину самой себя:
– Гости и родственники собрались, все дела. Свёкор склонился над Стаськиной кроваткой и проникновенно так произнёс: “Расти, Стасик, взрослей. Мы будем учить тебя, а ты будешь учить нас!” – типа, обращается к Стаське, но позыркивает по сторонам – оценила ли публика, какую глубо-окую мысль Валерий Александрович завернул! Стаське-то год, ему похуй этот незаурядный ум!.. Бля-а-а, – нежно проблеяла. – В общем, выбесил от души! А потом Елизавета Андреевна выступила. Про то, как Паша меня завоевал… Завоебал!..
Во хмелю моя Дюймовочка раскрывалась как изрядная матерщинница. Я помалкивал, кивал, подносил крепкие порции.
– О! Ваша киска купила бы виски! – попробовала. – Чё-та много плеснул! Напоить хочешь?.. Ладно, рассказываю дальше. Я говорю ему: “Паша! У каждого человека внутри существует предел! Предел чувств! Предел боли! Я год молчала, терпела и делала выводы! А теперь я хочу уйти! Просто, блять, уйти! Без слов и объяснений…” Ага, налей ещё, только сосасолы плесни уж! Неразбавленный вискарь девушке принёс!
– Чего плеснуть? – не понял.
– Сосаcолы! – заулыбалась. – Ну, сам прочти на этикетке: “Сосасола”! Ой, иди уже!..
Геодезист громко общался с кем-то по телефону:
– Нормально тут! Приезжай! С голоду пока не пухнем!
– Не пукнем! – подкрался Евстигнеев. – Хотя, может, и пукнем, но не с голоду, а просто пукнем!.. – и по залу громыхнуло хохотом. Я поспешил обратно.
Юля ждала меня. Язык у неё чуть заплетался:
– “Юленька, ради ребёнка надо сохранить семью. Давай всё наладим, отдохнём в Крыму”. Не хотела, но согласилась. Ладно, поехали в твой ёбаный Симеиз. Он билеты взял. Я спрашиваю: “Паша, ты какие взял, плацкарт или купе?” Он такой: “Плацка-арт”… – передразнила раззявленный лепет дауна. – Паша! Плацкарт – это ноги! Твою мать!.. Ты ж сам мириться хотел! А пожмотил на мне с самого начала! Как можно с этих торчащих отовсюду ног начать всё заново?! Как, блять?! – и выронила стаканчик. – Принеси новый, ладно?..
Позже я часто вспоминал пьяный Юлин экскурс в разруху семейных взаимоотношений. Удивительно, но за какой-то час она сообщила мне все необходимые вещи, которые должен знать вступающий во взрослую жизнь юный мужчина. Я тогда уже пообещал себе, что никогда не возьму своей женщине “плацка-арт”…
Виски закончился. Оставался коньяк. Я чуть разбавил его фантой и понёс Юле.
– Ой, спасибки! – экранчик мобильника лунно освещал её лицо.
– Прикольный, – сказал я, протягивая стаканчик. – С камерой?
– Ага, “нокия” це шестьдесят два тридцать… – и вдруг умильно промяукала: – Мой люби-и-имый подари-и-ил!..
Это было как тычок под дых.
– Любимый, значит… – сказал, поперхнувшись словом.
– Ну, мой нынешний мужчина… – она торопливо отправляла смс. – Хорош, благороден, неординарен… Но в возрасте…
– Жаль, что я плох, подл, ординарен и юн… – произнёс я с горечью.
Юля отвлеклась от телефона:
– Да ты, оказывается, умеешь шутить, мальчик с каменным лицом… – и провела ноготками по моей щеке.
От этого неожиданного, нежного прикосновения по моему телу прошла даже не дрожь, а судорога.
– Сними очки, – попросила. – А ты симпатичный, Володя. Просто эти стекляшки тебе совсем не идут.
– Папик, значит, у тебя… – вспомнилось подходящее слово.
– Увы, мой щедрый друг, к сожалению, стар, ему хорошо за сорок… – и хихикнула. – Дирижёр из филармонии. Ну, такой продвинутый дяденька. Вечно юное ретро, джазок нашей молодости…
Экранчик “нокии” заморгал. Пришло ответное сообщение от дирижёра.
Юля прочла и гадко засмеялась:
– Послушай, чё пишет: “Любимая, целую твои ключицы…” Ключицы!.. Романтик, ёпт. Дурачок мой… Жениться, кстати, хочет. А я вообще-то пиздец как люблю, когда на мне жениться хотят. Я вот недавно изменила ему. Причём, не поверишь, с таким говном, что вспомнить тошно. – Она виновато вздохнула, но так сладко зажмурилась, что было видно, что ей совсем не тошно. – Даже не знаю, зачем я тебе всё это рассказываю. Принесёшь ещё?
В зале бухгалтерши Ирина и Света вели под руки Потапенко. Зам осоловело выкрикивал:
– Чтоб всем нам было хорошо!.. И ничего за это не было!..
Я слил в стаканчик остатки коньяка из двух бутылок и чуть плеснул для общего объёма водки.
– Слушать будешь? В общем, я сама не поняла, что случилось. Поволокла меня к нему домой то ли любовь, то ли пол-литра вискаря.
– Пол-литра любви, – съязвил я.
– Точно! – она расплылась пьяной, манящей улыбкой. – А чувак, понимаешь, неказистый, но харизматичны-ы-ый, сука…
– Прям как я. Неказистый, харизматичный и сука!
Юля заурчала.
– Нравится, когда ты такой, – она опять коснулась пальцами моего лица. – Щас я тебе покажу его…
На телефоне замелькали фотографии.
– Так… Не то… Ой! Это тебе нельзя! – размашисто прижала экранчик к кофточке. Пошатнулась, оступилась, но я успел подхватить её. Она едва держалась на ногах.
Преодолев слабое сопротивление, заглянул в телефон. Там раздетая Юля показывала грудки – маленькие и пухлые, какие встречаются у ожиревших мальчишек.
– Это он меня фотал, – пробормотала сонным, разваливающимся голоском. – Относится ко мне потребляцки… Как к избушке: “Юленька, стань ко мне задом, к лесу передом…” Надо в туалет. Проводи, пожалуйста…
Я повёл Юлю на второй этаж.
– Тебе понравилась моя грудь? – выпытывала. – Красивая?
– Очень понравилась. Глянуть бы ещё вживую…
– Всему своё время! – она засмеялась, словно покатившаяся вниз по ступенькам монетка. – Может, и покажу… Чуть позже…
Наверху было сумрачно и пусто. Я щёлкнул по выключателю, но зажёгся только один плафон. Ремонт на этаже был почти закончен. У стены стояли похожие на зоологические экспонаты кожаные диваны и пара кресел.
В туалете ещё не повесили лампу, из потолка, как поросячий хвост, торчала завитушка проводки.
– Подожди, я сейчас… – Юля прикрыла дверь.
Стукнула крышка стульчака. Зашуршала одежда и донеслось умиротворённое журчание. А затем стало очень тихо.
Я подождал несколько минут, потом заглянул. Она спала, положив голову на колени. Спущенные трусики и колготки наполовину прикрывали голубые гетры.
Я взял Юлю на руки, вынес в коридор. Положил на диван. Первой мыслью было одеть её, но пальцы сами коснулись Юлиной бритой промежности, тёплой, влажной от недавнего мочеиспускания.
Она вдруг очнулась, промычала невнятно, полусонно:
– Ты что делаешь?
– Ничего… – хрипнул я, отступился.
Её личико озарила беспомощная и нежная улыбка.
– Иди сюда… – Шепнула, обняв мою руку: – Ну, поцелуй меня…
Некогда было снимать с неё колготки. Я резко перевернул Юлю так, чтобы бледный её зад оказался повёрнут ко мне. Отчаянно торопясь, расстегнул ширинку.
Содрогался, думая: “Она же до смерти пьяна! Мертвецки!”
Оглушительных полминуты я вколачивал в неё своё: “Вусмерть! Вусмерть! Вусмерть! Вусмерть!” – а потом застонал, потёк, вытек, истёк…
*****
Наступил долгожданный октябрьский день, когда в утреннем воздухе разлилось радостное и тревожное, будто удары колокола: “Дем-бель! Дем-бель!..”
Я простился с Цыбиным и Дроновым – они уезжали несколькими днями позже, а Давидко ещё вчера отправился в свой волгоградский посёлок.
Под вечер заводская “газель” покатила меня на белгородский вокзал. По иронии судьбы моим соседом оказался тот самый бедолага Антохин, когда-то не пожелавший идти вместе с нами в землекопы. Он так и остался рядовым. Сидел напротив – сутулый, напряжённый. Боялся пересечься со мной глазами. Всем затравленным своим видом он походил на пса-мученика, которому достаются лишь тычки и сапоги. Возле каждой стройки приживались бездомные собаки. И одному богу известно, почему какой-то бобик ходил в фаворитах, а другой бывал вечно бит и голоден.
Поезд оказался харьковским. Родина приобрела мне на обратный путь удобный нижний плацкарт. Я, как только расположился на полке, заказал чаю. За минувший год изменилась расфасовка сахара. Проводница принесла две запаянные бумажные трубочки, как в “Макдоналдсе”, а не привычную упаковку с изображением локомотива и рафинадом внутри. Одну трубочку я сунул в бушлат – про запас. Она потом лопнула, сахар размок, и до самого Рыбнинска у меня был липкий карман.
День провёл у Тупицыных. Олег Фёдорович всё пытался обсудить со мной насущную политическую ситуацию. А год назад донимал “оранжевой революцией”, огорчаясь моему вопиющему безразличию.
– Нельзя так, Володя, – корил. – Это же тектонические сдвиги! Как-то ты рано душой обленился.
Я тогда грубовато ответил:
– Олег, а вы лопатой помашите десять часов в сланцевой глине и тогда поймёте, что у вас: лень души или сдвиг…
Прохор ползал по мне словно обезьянка, а я, как умел, развлекал его. Особенно брату нравилось, когда он становился обеими ногами на мою раскрытую ладонь, а я держал его на вытянутой руке. Прохор голосил от восторга, просил Тупицына, чтобы тот повторил забаву, но Олег Фёдорович только отмахивался, ссылаясь на сорванную спину.
За ужином мать и Тупицын выспрашивали: как я мыслю своё будущее, буду ли готовиться в институт? Я отвечал, что недельку-другую отдохну, а потом запишусь на подготовительные курсы при судостроительном, чтобы летом уже наверняка поступить на юриспруденцию. Тупицын кивал и, как обычно, зазывал поступать в свой инженерно-экономический, обещая протекцию и посильную помощь.
Утренним поездом я поехал в Рыбнинск. Несколько часов кряду смотрел в окошко. Мной овладела утомительная, болезненная пристальность. Она истощала, как физический труд: угловатые литеры граффити, которыми были расписаны бока гаражей, закопчённый ремонтный завод, жёлтая стена с рифмованным транспарантом: “Метровагонмаш – в метро вагон марш!”.
Началось разрытое до недр Подмосковье. Взгляд скользил по котлованам, земляным насыпям, барханам из щебня и песка, сваям, трубам. Щетинилась рыжая арматура, сновали азиаты в оранжевых касках – не воины-строители, а простые наёмники.
По радио звучало что-то задорное и глупое. За тонкой перегородкой купе мужской голос с пьяной доброжелательностью декламировал:
– Друж-ба!.. Это круглосу-у-уточно!..
Чайная ложка дребезжала в пустом стакане. У старухи, что сидела напротив, нижняя челюсть тряслась в такт перестукам колёс. Рядом с лежащим на салфетке бутербродом муха злорадно потирала лапки, похожая на негодяя из немого кинематографа.
Мост прогрохотал полминуты и кончился. Полыхнула стёк-лами сторожевая будка. И я вдруг смертельно затосковал от несбыточной мечты – вот бы сделаться охранником такого моста, поселиться навеки в будке. Месяц за месяцем глядеть на облетевшую чешую листопада, зимние, заметённые снегом берега, весенние обломки льдин, летние тёплые искры, бегущие вдаль по волнам…
На меня отовсюду наваливался штатский мир, от которого я здорово отвык за два года службы.
Сколько же раз я представлял себе пеший маршрут от вокзала к дому. Хотелось вернуться суровым и нежданным, как солдат с фронта. Но ещё за пару часов до прибытия я не удержался, позвонил из поезда бабушке, сообщил, что к вечеру буду. Спросил, что купить из еды в новом торговом центре – всё равно по дороге. Бабушка уговаривала ничего не покупать – холодильник битком набит.
Набрал отца. Он сдержанно поприветствовал меня и сказал, что завтра же придёт в гости. Позвонил и Толику Якушеву. Друг детства присвистнул, но эмоция его, как мне показалось, была посвящена не самому факту моего приезда, а тому, что пролетело два года. Он-то был уже студентом третьего курса…
В сердце тюкнула былая обида. Поболела да и прошла.
К моему приезду Рыбнинск погрузился в сумерки. Лоснящийся от недавнего дождя асфальт бликовал влажными разноцветными отпечатками фар, окон, уличного неона. Я шёл, втайне надеясь столкнуться хоть с кем-нибудь из знакомых – вдруг обрадуются, удивятся. Но никто не повстречался.
Минут тридцать меня шатало по торговому центру. Растерявшись от съестного изобилия супермаркета, я долго выбирал деликатесы. В итоге взял баночку красной икры. В алкогольном отделе изучал бутылки с вином. Когда продавцы стали подозрительно коситься, схватил первое, что укладывалось в бюджет.
Уже на выходе из торгового центра я заприметил кабинку с моментальной фотографией. Сознавая, что военная форма на мне последний день, я укрылся за серой гофрированной шторкой, пристроился на неудобном вертящемся стульчике и сделал перед мутным рентгеновским экраном четыре снимка с вариациями: с головным убором, без него, с улыбкой, без улыбки.
Бабушка, отступив на шаг, всплеснула руками:
– Ты ещё больше вырос, Володюшка! В плечах-то как раздался…
Она готовилась к встрече: уложила волосы, надела новое платье и любимые бусы из малахита. Потом вздохнула:
– Так мне в магазине понравилась ткань, думала, на ней орхидеи изображены, а потом, когда уже Любовь Ивановна пошитое принесла, – смотрю, не цветы, а какие-то банановые шкурки… Или нормально выглядит? Только не ври, пожалуйста.
Я поцеловал бабушку в сладко пахнущую пудрой щёку и сказал, что платье замечательное и очень ей идёт.
– И вдобавок в тапках тебя встречаю, – сказала удручённо. – Пару дней назад нога ни с того ни с сего распухла, – жалуясь, показала забинтованную лодыжку, – и никак в туфлю не лезла, прям как у Золушкиной злой сестры… В общем, раньше переживала, что старею, а теперь и это слово не подходит, – кротко улыбнулась. – Дряхлею я, Володюшка.
– Бабуля, не выдумывай, – у меня перехватило горло. Предательские очки изнутри сразу покрылись испариной. Бравым голосом я вскричал, что пойду мыться, и поспешил укрыться в ванной.
Дома всё было без изменений. Разве что прадедовская живопись, ранее стоявшая прислонённой к стенке и в полиэтилене, теперь украшала коридор и гостиную. Я прошёлся туда-сюда взглядом по картинам и не увидел изображения с надгробием. Бабушка сказала, что “Кладбище” и “Мельницу” унёс отец.
Был накрыт стол с любимой пищей моего детства: печёным картофелем, котлетами и квашеной капустой. К пиршеству прибавились бутерброды с икрой. Бабушка достала семейные рюмки – маленькие, из толстого стекла. Дедушка Лёня в шутку называл их напёрстками. Так и говорил: “Ну, давайте поднимем наши напёрстки…”
Я налил нам вина, и мы выпили за моё возвращение. Пока я ужинал, бабушка пересказывала последние новости. С улыбкой про отца: он в очередной раз выставил свою “мадам” – так бабушка называла его скандальную подружку с вычурным именем Диана. Потом грустное:
– Умер Василий Феоктистович. Помнишь его, Володенька? Он к дедушке заходил…
– Помню, бабуля. Жалко…
– Никита приезжал месяц назад. Остепенился, похорошел. Я говорила ему, что ты скоро возвращаешься, он очень хотел с тобой повидаться…
Я знал, что Никита освободился года полтора назад – отец вскользь упоминал об этом. Судя по всему, дела у брата шли неплохо.
– Ой! Совсем забыла! Никита же тебе оставил, – тут бабушка усмехнулась, – как он сам выразился, “презент”!
– Какой?
– Не сказал. Пакет небольшой. Я на твой письменный стол положила…
После ужина я отправился к себе. Как и год назад, мне показалось, что моя комната отвыкла, одичала, словно оставленное без общения существо. Я включил и люстру, и настольную лампу, врубил на компе “Наутилус” вперемешку с “Агатой Кристи”, чтоб растормошить пространство, напомнить ему обо мне.
Никитин подарок в бумажной обёртке лежал на столе. Я разорвал упаковку. Внутри оказалась коробка с “моторолой” – модной раскладушкой V3. Чёрная буква “М” на стальной крышке телефона приятно напоминала бэтменовскую пиктограмму.
Я на радостях сразу переставил симку из моей старенькой “нокии” в новый, роскошный мобильник. Пока он заряжался, разбирался с непривычным меню, фотографировал всё подряд: этажерку, диван, шкаф, своё отражение в окне, а под конец поиграл на электронном бильярде.
*****
Собирался спать до полудня, а проснулся в девять. Чудно́ было лежать в собственной кровати и ощущать, что утренние подъёмы, каторга с землёй, лопатами, кубометрами – всё это позади.
Приехал отец. С порога обнял меня, затем с самым серьёзным видом полез во внутренний карман пиджака. Я догадывался, что он оттуда достанет.
– Возвращаю в целости и сохранности… – конечно же, это были мои биологические часы.
Я вдруг с болезненной нежностью подумал, что мне очень повезло с отцом. Ведь в течение двух лет этот немолодой чудак каждое своё утро начинал с заботы о моём благополучии.
Мы позавтракали. А около полудня позвонил Толик, позвал в гости. Я тут же прекратил на него обижаться, подмигнул радостно бабушке:
– Это Толян! Ну надо же, вспомнил!
– Вот видишь! – порадовалась за меня бабушка. – Я же говорила вчера, что пригласит. А ты только зря дулся на него!
Я произвёл ревизию одежды и выяснил, что надеть, в общем-то, нечего. Джинсы смотрелись какими-то подстреленными, словно я отнял их у младшего брата. Были ещё скучные, школьных времён, брюки, пенсионная чета свитеров, водолазка с найковской, похожей на шрам, запятой под сердцем, спортивный костюм, почти новый, но неуместный для званого обеда.
К счастью, деньги на экипировку водились. Сразу после завтрака я направился к торговому центру “Континент”. За пару часов принарядился: выбрал “милитари”-штаны цвета хаки со множеством карманов, утеплённые кроссовки и чёрный бомбер на оранжевой подкладке. Я критически осмотрел себя в зеркале примерочной кабинки и остался доволен. Как сказал бы друг Толика Гошан, получилось “скинхедненько”.
На сердце, впрочем, лежала тень, словно предчувствие чего-то нехорошего. Так и вышло в итоге. Лучше бы никуда не ходил, ни в какие гости.
Собирались Якушевы не ради меня. Оказалось, у мамы Толика, Зинаиды Ростиславовны, день рождения. Я этого, конечно, не знал, так что две мои бутылки водки, принесённые для предполагаемого мальчишника, выглядели мужланским подарком.
Я шикнул на Толика:
– Чего ж ты не предупредил? Я бы хоть цветов купил…
Семейство Якушевых собралось в усечённом составе: старший Якушев – Николай Сергеевич, Зинаида Ростиславовна, Толик и младшая сестра Толика – Люся. Семён и Вадим собирались подойти позже.
Когда я уходил в армию, Люся училась в восьмом классе. За два года она вытянулась и округлилась, превратившись из девочки в девицу, причём довольно симпатичную.
Злобный Толик зачем-то сразу Люсю обидел, сказал, что тщательно запудренные прыщики у неё на лбу – это слово “дура”, набранное шрифтом Брайля. Люся смутилась и покраснела, Зинаида Ростиславовна строго спросила Толика, что вообще такое шрифт Брайля, а я, как полный олух, ответил – это азбука для слепых, – после чего понял, что Люся навсегда записала меня во враги. А Толик лишь хихикал.
Я попытался исправить ситуацию, решив задобрить Люсю прошлым. Вспомнил, как она совсем маленькой рассказывала мне сказку: “Было у царя три сына, Иван Иванович, Иван Петрович и Иван Фёдорович”. Но по злорадной реакции Толика я понял, что и эта история почему-то тоже относится к области издевательств над бедной сестрицей.
Пришёл после работы Вадим. Мне он вроде обрадовался, поприветствовал:
– Как поживает стройбат?
Я выпалил:
– Кто служил в стройбате, тот смеётся в драке!
Вадим сказал, что слышал другую поговорку:
– Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся, – и смазал весь эффект.
Потом Николай Сергеевич поинтересовался, не на службе ли выдают такие шикарные телефоны, а я подумал, что он шутит.
– Так и есть – наградной, дядь Коль! Отличнику боевой подготовки!
А Николай Сергеевич не шутил. И ответ мой получался издевательским. По лицу Вадима я понял, что он слегка обиделся за выпившего отца. Чтобы больше не ляпнуть лишнего, на все расспросы Вадима о стройбате я однотипно отвечал:
– Ничего особенного… – или: – Не при женщинах…
Зинаида Ростиславовна даже укоризненно вздохнула:
– Это что ж там такое было, Володя, что рассказать нельзя? – и повисла неприятная пауза.
Потом появился Семён, и он был не то чтобы трезв. Я с воодушевлением пожал ему руку, а Семён вдруг выдернул ладонь и визгливо, с поднимающейся дрянцой в голосе, спросил:
– Чё ты этим хотел сказать?!
Я даже не понял, про что он. И никто, кажется, не понял.
– Хуле ты мне так сдавил, а?!
Я растерялся от его слов:
– Извини, Сём, просто пальцы у меня, наверное, от работы огрубели и…
– То, что ты где-то там два года свинопасил и соплю на погоны получил, – зло произнёс Семён, – здесь нихера не канает! Понял?!
– Ну, положим, не одну, а три сопли, – тихо произнёс я, чувствуя, что закипаю.
Я же всё-таки был командиром отделения, бригадиром, мне подчинялась дюжина солдат. И со мной никто не говорил таким тоном.
– Ладно, – сказал я. – Пойду.
– Вот и всего хорошего, – кивнул Семён. – Пиздуй нахуй!
– Сёма, прекрати… – обессиленно просила Зинаида Ростиславовна. – Володя, пожалуйста, возвращайся за стол…
– Ничё, – накручивал себя Семён, – хуле он тут силу показывает! Илья Муромец, блять, на заду семь пуговиц!..
Я пошёл в коридор одеваться. Семён увязался за мной, бубнил как заведённый:
– Вот и всего хорошего, вот и пиздуй нахуй! – а за ним гуськом плелись Толик, Зинаида Ростиславовна, Люся.
Николай Сергеевич фыркал, как кот:
– Мир!.. Мир!.. А ну, мир!.. Мальчишки, мир!..
Я уже дошнуровывал кроссовок, когда Семён, видимо, посчитал, что словесную комбинацию нужно освежить:
– Пиздуй, пиздуй!.. Сержант зассатый!..
Я поднялся. Но был уже не Володей Кротышевым, а бригадиром землекопов.
Метил ему в лицо, потом, уже на лету, передумал, пожалел. Решил приложить в грудь, а попал посередине – аккурат в горло. Семён издал какой-то захлёбывающийся звук, упал, обвалив вешалку, тумбочку и табуретку. Завизжали Люся и Зинаида Ростиславовна:
– Ой-й-й! Он ему кадык сломал!
Толик и Николай Сергеевич бросились поднимать Семёна, я же наконец справился со входной дверью – пальцы тряслись от волнения – и рванул по ступеням вниз.
Бежал и чуть не плакал. Это была реальная катастрофа – устроить драку на дне рождения. Я осознавал, что отныне к Якушевым путь заказан если не навсегда, то на очень долгий срок.
На улице понял, что забыл телефон – прям возле тарелки. Я потоптался в замешательстве, не понимая, как поступить. А затем увидел Вадима. Подумал, что он собирается выяснять отношения, но Вадим, наоборот, приобнял меня и попросил не обижаться на Семёна – мол, у того последнее время одни проблемы, а неделю назад ещё и девушка бросила, поэтому он такой бешеный.
Я благодарно кивнул. Спросил: всё ли в порядке с Семёном?
– Живой и невредимый, ругается и обещает тебя отпиздить! – Вадим рассмеялся. – Но лично я ему не советую этого делать. И вот ещё мобила твоя наградная. Ладно, Вовка, не грусти, всё перемелется. Давай пять…
Я сунул “моторолу” в карман, крепко пожал Вадиму руку, а он с весёлым удивлением сказал, встряхивая пальцами:
– А у тебя и правда не лапа, а тиски! Чё ты там делал такое в армии?
– Землю копал.
*****
Бабушке я не рассказал про инцидент у Якушевых, чтобы лишний раз её не расстраивать. Она только спросила через пару дней: “Чего Толик не звонит, не заходит?” – и я равнодушно бросил: “Сессия началась”.
Прошла медленная, ленивая неделя. От навалившегося безделья я очумел – совершенно разучился обращаться со свободным временем. Хаотично, от ссылки к ссылке, рыскал по интернету, смотрел телевизор, гулял, по ночам навёрстывал пропущенные блокбастеры, которые брал сразу по три – четыре диска в прокатном салоне.
В выпускном классе я завёл блог под вычурным ником “pavlik_mazhoroff”. Френдов у меня было до комичного мало – десять. Как ядовито пошутил когда-то Толик: даже меньше, чем у Оушена. Спустя два года их тоже не прибавилось. Юзерпик с потрёпанной физиономией муровца Шарапова больше не казался мне забавным, но я не придумал, чем его заменить.
Я за три часа накропал бодрый пост, что отслужил и вернулся, повесил ролик из ютуба с песней Бумбараша, пообещал вскорости выложить подробности моих удивительных армейских приключений. За пару дней под постом появился всего один комментарий, да и тот от Тупицына: “Ещё раз с возвращением!”
При таком повышенном интересе к моей персоне сочинительство заглохло, не начавшись. Но я, если честно, даже обрадовался, что необходимость писать отпала сама собой.







