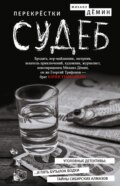Михаил Дёмин
Рыжий дьявол
РЕЗАЛИ ГУСЕЙ – ОНИ УМИРАЛИ, КАК ЛЕБЕДИ
И вот еще одна история, в которой трагическое густо перемешано с курьезным…
Но сначала необходимо сделать коротенькое отступление. В Алтайске, как я уже говорил, выходила районная газета, и у нее имелся определенный круг своих авторов. В этот круг со временем вошел и я и познакомился кое с кем. Особенно любопытным показался мне молодой поэт по имени Сема Дробышев, который писал забавные миниатюры.
В каждой миниатюре заключалась какая-нибудь изюминка, была запоминающаяся деталь. Вот, например: „мое занятие теперь – ремонт воздушных замков". Или еще: „резали гусей – они умирали, как лебеди".
Я несколько раз встречался с Семой, мы были бегло знакомы. Но как он живет и что вообще делает, я не знал. И совершенно неожиданно накануне Пасхи я вдруг получил от него письмо с приглашением приехать к нему домой по случаю его, Семиного, дня рождения.
Отказываться было неловко, да и не хотелось. И в назначенный день вместе с неизменным своим шофером Петром Азаровым я прибыл в районный центр.
* * *
Меня с самого начала слегка удивил адрес, указанный на конверте, – Первомайская, 40. Он полностью совпадал с адресом больницы, где я уже успел побывать. Но, может, тут какая-то ошибка, думал я, какая-то путаница? Проверим на месте…
Ошибки, однако, не было; Сема ждал нас у ворот больницы. Он стоял, катая в зубах окурок, а над ним – освещенная закатом, виднелась вывеска: „Психиатрическое отделение".
– Наконец-то, – воскликнул он радостно, – я уж целый час вас жду!
И повел нас куда-то в сторону – вдоль забора.
– Куда это ты? – спросил я.
– К себе, – ответил он, – увидишь… Тут есть одна лазеечка, я всегда ею пользуюсь.
Вскоре мы достигли этой лазеечки и проникли через нее на больничную территорию. Затем миновали „мертвецкую" и спустились в какой-то подвал.
Здесь находилась котельная. И Сема работал в ней кочегаром.
Помещение это было мрачное, полутемное. У входа в подвал громоздилась груда угля, а в другом его, дальнем конце зияло багровое круглое отверстие пылающей топки.
– Вот тут я, братцы, и работаю, и живу, – широко поведя рукой, сказал Сема. – Как в преисподней, правда?
Освещенный колеблющимися отблесками огня, он сейчас и в самом деле походил на черта… На веселого черта.
Усадив нас на каких-то досках, он захлопотал; постелил на полу чистую тряпочку, выставил закуски. Затем извлек из бочки с водой бутылку охлажденной водки. Мы присовокупили к ней свою, прихваченную в качестве подарка. И так начался праздничный этот пир!
Первый стакан был поднят за поэзию.
– Я почему в первую очередь за нее? – сказал Сема. – Потому, что в этом нашем бредовом мире поэзия – единственная реальность, единственная стоящая вещь… Мы все, как тени, появляемся и исчезаем… А она остается!
Мы выпили. И я возгласил:
– Ну, а теперь все-таки за тебя! Нынче ведь твой день… Сколько тебе, старик, грянуло?
– Двадцать восемь.
– Значит, мы с тобой ровесники!
И мы еще приняли по одной. И Сема сказал:
– А теперь за вас, ребята! За моих гостей!
Бутылка кончилась. Раскупорили новую. И следующий тост предложил уже Петя:
– А теперь, – сказал он, – за нас за всех!
– Верно, – поддержал я его. – За нас, за удачу. За то, чтобы мы хотя бы сумели умереть лебедями!
Мы дружно сдвинули стаканы. И опорожнили их. И тут же наполнили снова. И я было начал:
– Ну, а теперь…
Но Сема перебил меня:
– Ребята, а куда мы гоним? Давайте-ка передохнем, потолкуем. И он закурил. И посмотрел на меня:
– Вот ты про лебедей вспомнил… Значит, читаешь меня! И я тоже тебя приметил… Потому и позвал. И вот, что я тебе скажу: я-то сам уже конченный, пропащий, а ты еще, пожалуй, сумеешь „помереть лебедем". У тебя судьба легкая.
– Это у меня-то легкая? – усмехнулся я.
– Ну, а что, – прищурился он, – что у тебя было? Война? Лагеря?
– Да. И война, и лагеря. Было все.
– Вот именно – все! Значит, ты жил полной мерой. А я, например, ничего вообще не видал! Ничего, кроме детдомов и больниц!.. И уже устал. И знаю, что долго не вытяну со своей болезнью…
– А какая у тебя болезнь? – осторожно спросил я. – Надеюсь, ничего страшного?
– По-научному это называется „сумеречное состояние". А по-простому – вечная тоска, тяжесть на душе. Ну, и иногда еще галлюцинации…
Сема был уже заметно пьян и вероятно поэтому говорил о себе с такой откровенностью.
– Галлюцинации-то бывают нечасто – приступами, но все же я предпочитаю от больницы не удаляться. И вот так и живу. Сам видишь! Место здесь спокойное, теплое. И врачи под боком. Чего еще надо?
– И давно это началось?
– С детства. У меня родители были ссыльные, понимаешь? Отец – инженер из Москвы, мать – выпускница художественного училища… Родился я уже в тайге. А потом их угнали куда-то еще дальше на север, а я попал в детдом. Ну и вот с тех пор…
– А пить, – поинтересовался Петр, – пить-то тебе можно?
– Много не рекомендуется…
– Ну, так и хватит, – сказал я тогда, – и нам, пожалуй, пора уж отчаливать. На дворе – ночь, а дорога не близкая…
– Нет, ребята, погодите, – сказал он просительно, – куда вам спешить? Я еще хочу вас со своими друзьями познакомить.
– Это с кем же?
– Есть тут у меня ребятишки, – подмигнул Сема, – я по вечерам к ним хожу, развлекаю… Им же ведь грустно – они на запоре.
„Что это еще за ребятишки? – подумал я с сомнением. – Везет мне последнее время на психов… Но что ж поделаешь? Раз человек просит…"
* * *
Пройдя пустой темный двор, мы проникли в больничное здание, поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж и попали затем в коридор – тоже безлюдный, слабо освещенный одинокой синей лампочкой.
Здесь было несколько дверей. Возле одной – самой дальней – Сема остановился, прислушался. И поковыряв в замке какой-то железкой, ловко открыл его. И глазам нашим предстало странное зрелище.
В палате помещались дети – восемь мальчиков. Но что это были за дети! Мы попали в мир маленьких уродцев. Некоторые – параличные – лежали недвижно на своих постелях, другие же возились, балуясь, на полу…
Сема сейчас же шепнул мне:
– Вот потому их и запирают, – чтоб не разбредались.
Волоча за собою иссохшие, тоненькие неживые ноги, к Семе подполз мальчуган лет восьми. Голова у него была непомерно большая, раздутая, и лоб тяжело нависал над крошечным личиком.
– Сегодня опять будешь сказки рассказывать? – спросил он.
– Нет, – сказал, присаживаясь на корточки, Сема. – Сегодня будет концерт. Мои друзья устроят что-нибудь веселенькое…
– Они артисты! – раздался звонкий голосок.
Кто-то цепко ухватил меня за пиджак. Я глянул – и обомлел. У детской, державшей меня ручонки, было шесть пальцев! Петр, засопев, пробормотал тоскливо:
– Не могу… Идемте-ка, братцы, отсюда.
– В самом деле, – сказал я, – как-то жутко здесь, душно… Пошли!
– Нет, нет, – быстро, горячо заговорил Сема, – останьтесь. Для них это праздник! Ведь их же никто не любит…
Горло мое стиснула мгновенная судорожная спазма. „Господи, – сказал я мысленно, – как же так? За что им такое? Ведь ничего нет страшнее, если никто не любит!.."
И медленно оглядев помещение, я сказал, поворотясь к Петру:
– Ладно, дадим им концерт… Я сейчас спляшу, а ты делай музыку!
– Какую? – спросил он растерянно.
– Любую.
– Но как?
– Как умеешь… Соображай. Зря я, что ли, тебя держу?
Петр раскрыл рот, оскалился, обнажив крупные желтоватые зубы. И быстро начал щелкать по ним ногтями. Родился негромкий, четкий музыкальный ритм… И мы услышали мелодию штраусовского вальса.
И тотчас же палата огласилась восторженными детскими воплями.
Сема замахал руками, зашикал, требуя тишины. И в этой тишине я прошелся по комнате, выбивая дробную цыганскую чечеточку.
Мы старались вовсю. Увлекшись, войдя помаленьку во вкус, Петр стал затем имитировать голоса птиц и животных; он свистал, и выл, и гугукал. А я продолжал бить чечетку и что-то вопил невнятное, надрывное – цыганское. А Сема все пытался встать на руки – и беспрерывно падал, рушился на пол. Мы ведь были здорово тогда пьяны. Но ребятишки на это не обращали внимания; они с восторгом принимали любой наш трюк. Они были счастливы! И более благодарной аудитории я еще не встречал на своем веку.
Но всему всегда приходит конец.
В ОБЩЕСТВЕ ГЕНИЕВ
Всему всегда приходит конец… И в палату, в самый разгар веселья, вдруг ввалилась с грохотом группа мужчин. И один из них – коренастый, с обритым наголо черепом – крикнул с порога:
– Эй, Дробышев! Ты что, давно смирительной рубашки не видел? Соскучился?
И покосившись на своих спутников, скомандовал резко:
– Взять его! Отвести в одиннадцатую!
Сему увели. Настала наша очередь. Бритоголовый сразу же подошел почему-то ко мне.
Вид у меня, должен признаться, был в эту минуту малопочтенный. Во время концерта я сбросил пиджак, расстегнул рубашку и стоял теперь, тяжело дыша, разгоряченный, растрепанный, с торчащими врозь волосами.
– Ты из какой же палаты вырвался? – спросил он, явно принимая меня за сумасшедшего.
И кто-то из-за его плеча тихо проговорил:
– Наверное, новенький. С нижнего этажа. Там они все – неспокойные…
– Чепуха все это, – задыхаясь, с трудом сказал я. – Вы путаете… Я человек вольный.
– Он поэт, журналист и вообще директор, – вмешался в разговор Петя.
– Ага! – живо отозвался бритоголовый. – Так. Ну, а ты?
– А я – его музыкант.
– Вот и отлично. Пойдешь, значит, тоже в одиннадцатую! И затем, указывая на меня пальцем, приказал:
– Ну, а этого – к гениям! И проверьте там хорошо запоры.
И как мы с Петром ни шумели и ни сопротивлялись, нас все же скрутили и развели по палатам.
Самое смешное здесь заключалось в том, что мы ничего не могли толком доказать – ведь документов-то у нас при себе не было никаких! Тайга – не город, предъявлять бумаги здесь некому. И даже корреспондентское свое удостоверение я таскал только первые месяцы, а затем забыл о нем…
Все же я настоял на том, чтобы санитары проверили больничные записи. Имен наших там, конечно, не оказалось. Но старший (бритоголовый), поразмыслив, решил задержать нас до утра – до прихода врача. Очевидно мы вызвали у него весьма серьезные подозрения.
Как обычно, мне „повезло" больше, чем другим… Дробышев и Петя попали в одиннадцатую – к меланхоликам. А я угодил к скандалистам. И номер этой палаты был тринадцатый.
* * *
Эту ночь я провел в обществе гениев. В палате обитало два Пушкина и еще Шекспир.
Был этот Шекспир худ, костляв, длиннолиц. И он беспрерывно двигался, не мог ни минуты провести в покое. И вот он-то заинтересовал меня сильнее всего! Оказалось, что в прошлом он работал преподавателем химии в средней школе.
„Стало быть, ему, – думал я, – скорее всего подошла бы роль Менделеева или, скажем, Лавуазье… Или же он, на худой конец, мог бы вообразить себя какой-нибудь ожившей молекулой. Например, молекулой этилового спирта. Но почему же – Шекспир?"
Я спросил его об этом. И он ответил – весьма резонно:
– А почему бы и нет?
И затем добавил:
– Шекспир – это вулканические страсти, гигантские эмоции. И все они живут во мне! Их во мне даже больше, чем люди думают, но это секрет. И ты смотри, – он погрозил пальцем, – не проболтайся!
Я поклялся, что сохраню эту тайну навек.
С Пушкиными все обстояло проще. Это были два сварливых алкоголика, страдающих манией величия. Ну, а там, где есть эта мания, всегда присутствует и другая – противоположная… И потому оба они подозревали весь мир в зависти и в ненависти. И сами ненавидели его.
И, конечно же, прежде всего, ненавидели друг друга!
С одним из Пушкиных мне все же удалось разговориться. Я сразу постарался успокоить его, заявив, что я – человек здесь случайный и к великим не принадлежу. Хотя поэзию чрезвычайно ценю.
– Какую? – прищурился он.
– Именно пушкинскую, – ответил я, – самую настоящую!
– Значит, мою, – заключил он уверенно. – Ну, а этого самозванца, – он указал на другого гения, спящего, густо похрапывающего в углу, – ты не слушай. Все, что у него есть лучшего, он просто крадет. Он, к примеру, тяпнул у меня „Пиковую даму" и не признается. Я уж лупил его за это…
Читая эти строки, вы, вероятно, можете подивиться тому, что в недрах Сибири, в этой дикой глуши, так много людей, знающих поэзию, любящих ее, вообще как-то приобщенных к литературе… Но удивляться здесь, в сущности, нечему. Нельзя забывать, что Сибирь – страна особая, необычная. Это страна ссыльных интеллигентов! За время царствования династии Романовых, например, в Сибирь ушло несколько сотен российских дворян. Туда, год за годом, брели по этапу опальные заговорщики, франкмасоны, религиозные сектанты, а затем просветители. А вслед за ними декабристы. Потом последовала новая, гораздо более мощная волна, порожденная пролетарской революцией. В сталинский период количество ссыльных интеллигентов исчислялось уже не сотнями, а тысячами… И все они оседали в Сибири надолго, обзаводились семьями. И, естественно, оставляли в этой глуши какие-то свои следы. Один из таких следов – любовь к книгам, к чтению…
Но есть и оборотная сторона медали. Любовь к чтению – важный элемент культуры, но все же недостаточный. Монтень говорил: „вся беда – от полуобразованности". И это очень верно! Ведь полуобразованный человек – как правило – это человек, лишенный всяких корней. Он никто. По определению Монтеня, „он уже не крестьянин и еще – не философ". Отравленный беспорядочным чтением и не получивший правильного образования, он мечется и плутает; что-то ищет и не знает – что… И если к этому еще добавить традиционный идиотизм захолустной российской жизни, то тут и впрямь нетрудно свихнуться и угодить в тринадцатую палату. Или же – к меланхоликам…
Впрочем, попасть туда можно и при других обстоятельствах и с любым дипломом… Но мы рассматриваем сейчас самый простой вариант.
* * *
Прошла эта ночь, в общем, спокойно. Гении были со мной вежливы, покладисты; вероятно, им польстило то, что я ни в чем не сомневался и ни на что не претендовал.
А чуть свет меня, невыспавшегося и вялого, поволокли к врачу.
По дороге служители развлекались тем, что рассказывали друг другу анекдоты. Некоторые из них были забавны. Вот, например.
Обсуждалась книга в кругу читателей. И один сказал:
– Мне больше всего нравится здесь обилие интересных персонажей!
– И обратите внимание на подтекст, – сказал другой, – на скрытые коллизии. Роман ими переполнен! Эта вещь посильней Достоевского…
И в этот момент появился санитар и строго спросил:
– Эй, психи! Кто из вас опять украл телефонную книгу?
Это рассказал бритоголовый. Затем начал кто-то из его помощников:
– Пишет сын матери: „Дорогая мамаша! Мне в клинике живется очень весело. Мы резвимся, занимаемся спортом. Имеется большой глубокий бассейн, куда мы все время ныряем. И наш врач говорит, что если мы будем вести себя хорошо, он даже напустит в него воду".
Следующий случай уже касался врачебного персонала. Приходит в больницу министерская комиссия. Ее встречает врач-психиатр и начинает объяснять: „В этой камере сидит Наполеон, а в той, другой – Зигмунд Фрейд". Тут его спрашивают: „А кто это висит в коридоре на потолке?" – „Это один псих, вообразивший себя горящей люстрой". – „Так снимите его оттуда!" – „Ну что вы, – отвечает врач с беспокойством, – нельзя. Ведь тогда погаснет свет".
Вот с этим анекдотом мы и приблизились к врачебному кабинету. Я вошел и увидел знакомого психиатра, того самого, седенького, в очках, у которого я когда-то уже бывал в связи с Алексеем…
– Так это, оказывается, вы? – сказал он, удивясь свыше меры, – это вы учинили скандал в моем отделении?
– Не скандал, а концерт, – уточнил я.
– Это все равно, – отмахнулся он, – но как же вы туда попали?
Я коротко объяснил. И попросил извинения. И потом он много смеялся, уточняя детали… Но когда мы заговорили о Дробышеве, он вдруг посерьезнел. Снял очки, протер их полой халата. И держа их за дужку и раскачивая, проговорил:
– Сема, по-моему, перебарщивает. И это меня тревожит. Боюсь, как бы у него не начался запойный кризис. Это, знаете, волнами накатывает….
– Вам видней, – ответил я, – но мне лично кажется, никакой особой волны нет. Сема просто жалеет ребятишек, заботится о них и каждый вечер к ним ходит… Ну, а то, что случилось вчера, скорее наша вина, чем его.
– Вот как, – с интересом произнес врач, – каждый вечер ходит туда?
– А чем это плохо? Ведь он один. И они по вечерам тоже всегда одни. Скучают… Почему же с ними нет никого?
– Это сложный вопрос… Не хватает специалистов, недостаточно средств.
– Но неужели же нельзя нанять какую-нибудь простую женщину? Дорого это не обойдется…
– Можно, конечно, нанять. Но дело тут в другом. „Простые" женщины там не задерживаются, быстро сбегают… Вот вам парадокс! Казалось бы, кому же еще и заниматься несчастными детьми, как не им… Ан – нет, не хотят, не могут.
И он задумался, умолк. И потом с легким вздохом:
– Сколько еще есть неясностей, парадоксальных вещей' Человеческая психика полна загадок…
– Ну, насчет парадоксов не знаю, – сказал я, – но что касается детишек, то могу вам посоветовать, приставьте к ним Сему. Уж он-то не сбежит! Я ручаюсь.
– Да, это надо обдумать, – медленно проговорил врач, – да, да, пожалуй…
– А эти дети, – спросил я, – они отчего такие страшные?
– Ну, отчего, – сухо усмехнулся врач. – Тут много причин. Но, в основном, грехи родителей. Алкоголизм, наркомания… Вообще дурная наследственность.
– Но раз они в вашем отделении, значит, у них еще и тут чего-то не хватает, – я покрутил пальцем у виска, – ведь так?
– Естественно, – сказал врач. – У каждого из них свой душевный надлом… Вот, например, там есть Костя – с шестипалыми руками – видели?
– Жутковатое зрелище, – поежился я. – Ведь шесть пальцев, по народным поверьям, бывают у домовых, у леших. Это признак нечистой силы.
– И вот потому-то родители и хотели его убить!.. Утопить в болоте… Спасла Костю счастливая случайность. Но с тех пор он всегда сидит в помещении, гулять не ходит. У него так называемая „боязнь открытого пространства".
– Что ж это за родители? – пробормотал я. – Их самих надо бы утопить…
В этот момент в кабинет ввели Петра Азарова. Он был зол и отчаянно вырывался из цепких рук бритоголового санитара.
Когда санитар ушел, Петр прошипел, потирая левой рукой запястье правой:
– Жандарм!
И потом, обращаясь к врачу:
– Где вы их набрали? Им только в тюрьме служить или в лагере…
– А они там как раз и служили, – отозвался с улыбкою врач. – Тут неподалеку расформировался один лагерь, ну и мы взяли кое-кого из охраны. И для нашей работы, я думаю, подходят неплохо.
Затем мы стали прощаться. Пожимая мне руку, врач сказал вдруг:
– Да. Чуть не забыл! Относительно нашего подопечного – Алексея… Вы знаете, он пошел на поправку.
– Он разве был у вас?
– Неделю назад. И перемена весьма заметная. Вот видите, что значат домашние условия! Теперь вам больничная обстановка понятна; представьте, что было бы, если бы он лежал здесь?!
– Стало быть, он скоро поправится окончательно?
– Ну, не совсем, – покачал головой врач. – Кое-какие явления остались… Например, шофером ему уже не быть никогда. Я специально проверял его реакции. Он не выносит шума мотора. И вероятно, долго еще будет бояться темноты.
ДРАМА В ТУАЛЕТЕ
Ну, а как же обстояли дела в моем клубе? На этот вопрос мне, признаться, не так-то легко ответить… В общем, клуб я постепенно отремонтировал, привел в порядок. И теперь он весь блистал. Блистали вымытые окна. Блистали начищенные полы во всех комнатах. В кинозале стояли скамейки, заново покрашенные и правильно пронумерованные; для них я раздобыл специальный лак. И теперь они тоже были исполнены блеска.
Но этим блеском, собственно, все и исчерпывалось. Молодежная работа как-то не двигалась. В клуб иногда сходились – посмотреть кино, потанцевать… Однако в самодеятельности участвовать никто не хотел. И грандиозный сельский хор, о котором я все время мечтал, так и не складывался, не получался.
И все же я настойчиво добивался своего. Ходил по домам, уговаривал, упрашивал… И однажды – уже в начале лета – мне наконец удалось заманить в клуб нескольких девушек и парней.
Мы приготовились к репетиции. Но баяниста почему-то не оказалось на месте; он куда-то исчез. Прождав его часа два, я, взбешенный, послал за ним клубную уборщицу, тетю Настю… Вскоре она явилась и сообщила, что Петр болен и прийти не может.
– Чем это он болен? – грозно спросил я.
– Не пойму, – ответила Настя, – такого я сроду не видела… У него зашиблена голова и обожжена вся задница.
Репетицию поневоле пришлось отменить. И молодежь, хохоча, разошлась.
И на этом, собственно, и кончается рассказ о создании народного хора… Дитя померло, так и не успев родиться.
Вскоре, в конце июня, я простился с Очурами и уехал в Абакан. Но до этого произошло еще немало удивительных событий. И поскольку они как-то связаны между собой, я расскажу обо всем по порядку…
А пока что вернемся к Петру.
* * *
Он лежал на кровати на животе. И голова его, действительно, была забинтована, и задницу тоже украшала белоснежная марлевая повязка.
И когда я спросил, что это с ним, Люда воскликнула негодующе:
– Он сам во всем виноват!
– Ну, виноват, – пробурчал в подушку Петр, – не отрицаю. Но откуда же я знал, что так все получится? Если б не этот сортир…
– А кто его сотворил? – крикнула Люда. – Кто построил?
– А кто все время твердил: „Хочу жить по-городскому, по-западному! Не желаю бегать на двор!" Сама же спровоцировала… Зимой, дескать, холодно, летом – комары. И вообще, неизящно.
– Я правильно говорила! Да, хочу по-западному! Чтоб было в доме… Но разве ж я могла предположить, какие фокусы ты начнешь устраивать в туалете?
Туалет! Я припомнил, что эта тема волновала Петра уже давно; он переписывался с Абаканом, заказывал там какие-то трубы и особый, мраморный стульчак… И как-то раз я встретил его идущим по улице с надетой на шею овальной покрышкой от стульчака. Покрышка эта болталась, как гигантский деревянный ошейник. И выглядел Петр дико. Но это его ничуть не смущало. Он шел, посвистывая, вперевалочку, и явно был доволен собой.
Теперь он, очевидно, идею свою осуществил. Но о каких же „фокусах" шла речь? Мне надоела унылая их сортирная перебранка и я потребовал объяснений. И вот что Петя мне рассказал.
Все началось с того, что однажды на абаканском черном рынке Людмила приобрела заграничную синтетическую редкостного покроя кофточку. Была она полупрозрачна и имела множество забавных мелочей – какие-то разрезы, клапаны, кружевца. Когда Людмила ушла на работу (она служила в местном магазине), Петр принялся разглядывать шикарную эту новинку. А так как он перед этим что-то писал – и продолжал по забывчивости держать авторучку в пальцах, – он случайно испачкал кофточку чернилами. Посадил крупную кляксу, засуетился. И тут же посадил вторую. Нагрел в тазике воду и начал кофточку стирать… И в результате, испачкал ее всю.
Тогда он побежал к приятелю, жившему по соседству, и попросил у него бензина. Бензина у приятеля не оказалось, но зато нашлась какая-то другая жидкость – некий химический препарат, действующий, по его словам, еще сильнее…
Вернувшись домой, Петр вылил жидкость в тазик; он думал, что растворятся, растают грязные пятна на кофточке. Но, к его глубочайшему удивлению, начал таять сам этот материал.
Петр как-то позабыл, что имеет дело с синтетикой… А теперь было поздно. Кофточка расползлась, потеряла всякую форму. И он в раздражении выплеснул то, что осталось, в ватерклозет, в новую свою мраморную посудину.
Потом он закурил, задумался. Постоял с минуту. И уселся на стульчак.
Он уселся, расслабился. И прошло какое-то время. И докурив папиросу, Петр машинальным жестом швырнул окурок вниз, под себя. Так, как он делал всегда, когда сидел в туалете, – всю жизнь.
Но на сей раз случилось нечто невообразимое. Остатки кофточки вспыхнули вдруг, из стульчака вырвалось гудящее пламя. И подброшенный взрывом, Петр вылетел из тесной кабины, вышибив головою фанерную дверь.
– Но Людка-то сердится, кричит, ты думаешь, почему? – сказал Петр и шевельнулся, кряхтя. – Думаешь, это она меня жалеет? Нет, ей не меня, ей покупки жалко… Все-таки импортная штучка! Вся насквозь прозрачная! Европейский шик!
– Так ведь и за этот шик, и за сортир сколько денег было плачено! – воскликнула плачущим голосом Людмила. – Мешок первейшего лука, подумать только! Целый мешок!
– Ничего, не хнычь, – отозвался Петя, – вот подсохнет седалище, я на север поеду. У нас еще четыре мешка в запасе. Продам их подороже, и все исправим. Все будет по-новому.
– Опять по-городскому, – спросил я, – по-западному?
Но на это мне никто уже ничего не ответил.
* * *
Случай был смешной, пустяковый. Но все же он сыграл, как вы уже знаете, весьма серьезную роль в судьбе молодежного хора. Хор распался, рассыпался… И не только на клубных, но так же и на моих личных делах отразилась „туалетная" эта драма.
В какой-то мере из-за нее я неожиданно познакомился с той самой роковой красоткой Клавой, которая сгубила когда-то Ваську Грача. Может, и не нарочно, бессознательно, но все-таки сгубила.
После того, что рассказывал Алексей, мне, естественно, давно уже хотелось на нее поглядеть. До сих пор это как-то не удавалось… И вот теперь она сама пришла в клуб ко мне. Именно ко мне!