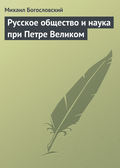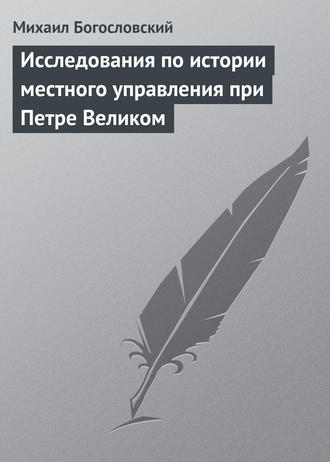
Михаил Богословский
Исследования по истории местного управления при Петре Великом
Благодаря всем этим причинам, перепись затянулась и, когда 22 июля 1717 года последовал сенатский указ ландратам прислать переписные книги в Петербург, а затем был прислан из Голландии указ Петра от 25 августа того же года, которым повелевалось ландратам явиться в Петербург с книгами лично, а губернаторам высылать их, ландратов, по самому первому зимнему пути, эти распоряжения исполнялись весьма медленно, и в течение всего следующего года прибыли в Петербург далеко не все ландраты. К псковскому ландрату Лопухину было послано из губернской канцелярии о явке его в Петербург целых пятнадцать указов: ко всем он остался совершенно глух и в Петербург не показывался. Правительство должно было прибегнуть к суровым мерам совсем в духе Петра Великого, чтобы заставить ландратов оканчивать перепись и привозить книги. Оно предписывало высылать запоздавших ландратов скованными в цепях, и такие высылки производились в течение 1719-го и даже еще в 1720 году. Их приводили в исполнение уже вновь назначенные провинциальные воеводы. Но и такие меры не всегда производили устрашающее действие на ландратов и встречали упорное сопротивление. Ландрата Шелонской пятины Мякинина было предписано выслать в Петербург с переписными книгами скованного за караулом. Новгородский судья, которому пришлось исполнять этот указ Сената, послал двух дворян, приказав им привезти Мякинина в Новгород, если же не поедет, то заарестовать и захватить его крепостных людей. Посланные, однако, доносили, что ничего не могли сделать: «Оной Мякинин в приказную палату (в Новгород) сам не поехал и людей своих взять им не дал, а сказал: ежели кто станет людей брать, того он станет бить»[192].
Приезжавшие с переписными книгами в 1718 году в Петербург ландраты, отдав книги и явившись на смотр, отпускались обратно в свои доли. Приезжавшие позже, в 1719 и 1720 годах, получали из Петербурга уже иные назначения, так как в это время произошла реформа областных учреждений и ландратура была отменена. Но, возвращаясь в свою долю на то короткое время, которое оставалось до этой отмены, ландрат не имел возможности всецело посвятить себя текущим делам областного управления. Едва успел он окончить и сдать одну перепись, как приходилось приняться за другую. Ландратская подворная перепись оказалась ненужной для податных целей, ради которых переписи и предпринимались, и сохранила за собою лишь простое значение статистического материала, необходимого для различных расчетов при предпринятой областной реформе. Вот почему правительство и продолжало настаивать на ее окончании и торопило с нею ландратов. Собственно, для фискальных целей предпринята была в 1719 году новая поголовная перепись, по которой предполагалось собирать новую подушную подать. Возвратившись в долю, ландрат и должен был приступить к приему «поголовных сказок», т. е. к производству новой переписи. Пошла опять та же история. Губернаторы рассылали об этой переписи во все доли к ландратам указы «с великим подкреплением и страхом», грозя жестокими взысканиями преслушникам указа. Ландраты опять оказывались неисправны и не только не оканчивали в срок новой переписи, но даже и не отвечали о получении губернаторских указов, так что приходилось прибегать для их понуждения к военной силе. В доли рассылались офицеры и унтер-офицеры гарнизона, которые и должны были торопить ландратов в переписном деле[193].
Итак, перепись населения, начавшись одновременно с учреждением долей, тянулась все время, пока долями правили ландраты. Понятно, как это чрезвычайное поручение, ранее, в XVI и XVII столетиях, исполнявшееся особыми переписчиками, рассылаемыми из столицы, а теперь возложенное на областную администрацию, должно было мешать правильному ходу областного управления, как, в свою очередь, обязанности ландрата мешали правильному и скорому ходу переписи, затягивая ее на такое продолжительное время. Ландрат, отвлекаясь от своих прямых обязанностей областного правителя и судьи, обращался в «писца», принужденного разъезжать по доле и заниматься сбором сказок, проверкой их на месте, изготовлением переписной книги и разработкой полученных статистических данных для составления разного рода «табелей и перечневых выписок», требовавшихся правительством. Комиссар, помощник ландрата, также бывал отвлекаем переписью ради ускорения работы, и, благодаря этому, текущие дела областного управления шли кое-как, а судебные разбирательства не могли не тянуться годами. Вот почему и происходили случаи вроде таких, что симбирский ландрат А. Колычев, спрошенный в 1718 году в Сенате о доходах и расходах своей доли за предыдущий год, простодушно отвечал, что он «о том не сведом, понеже с начала 1717 г. генваря по 1 число сего 718 г. был он в доле своей у переписного дела». Точно так же ландрат староосколь-ской доли Чириков заявил, что он, будучи в своей доле у переписного дела, сам казенными сборами не заведовал, предоставив их комиссару[194]. Если ландраты, занятые переписью, отстранялись, таким образом, от казенных «государевых» дел, то легко понять, в каком пренебрежении должны были находиться те дела по областному управлению, в которых на первом плане стоял частный интерес, так называемые «челобитчиковы дела», к которым относилось большинство дел судебных. В особенности вреден для правильности хода местного управления был вызов ландратов в Петербург для личного представления результатов переписи, заставлявший ландрата проводить значительное количество времени вне пределов доли. При таких отлучках делались совершенно невозможными для ландратов съезды их в губернском центре в конце года, предписанные законом. Наконец, перепись еще более усиливала зависимость ландратов от губернатора. Ответственность за успешный ход переписи лежала на этом последнем. В медленном исполнении переписного дела ландратом губернатор мог видеть то ландратское прегрешение, в случае которого закон позволял ему вмешиваться в управление долей. Вот почему губернаторы, не довольствуясь посылкой к ландратам грозных указов, командировали в доли особых комиссаров в виде офицеров или иногда унтер-офицеров гарнизона, которые должны были производить давление на ландрата, торопить его, а иногда вести под арестом в губернскую канцелярию для отправки в Петербург в цепях. Все это очень мало могло способствовать приобретению ландратом качеств самостоятельного областного правителя, каким предполагал его указ 28 января 1715 года, и ландрат, в конце концов, стал не более как вполне подчиненным губернатору второстепенным исполнительным агентом в областном подразделении губернии, каким была доля.
* * *
В институте ландратов можно видеть попытку провести в областное управление три начала: участие земских сил, коллегиальный порядок и децентрализацию. Эта попытка по всем трем пунктам окончилась неудачей.
Самодеятельность земских сил в местном управлении не удалась прежде всего потому, что к этой самодеятельности призывалось дворянство, а именно дворянство было тогда наименее способным к ней общественным классом. В эти годы Северной войны, с которыми совпала ландратская реформа, оно было не только отвлечено от местности, но в значительной мере и увлечено за пределы России в полках, находившихся за границей. А между тем, вводя институт ландратов и придавая ему выборный характер, законодатель не позаботился организовать остатки дворянских уездных обществ для этих выборов. Едва ли, впрочем, и возможна была какая-либо их организация в тот момент; поэтому, вероятно, Сенат и оставил без исполнения указ 1714 года о выборах. Ими не могли быть заинтересованы и сами уездные общества. Не то чтобы они были равнодушны к составу и деятельности местной администрации, так близко касавшейся их землевладельческих интересов. Но самое значение выборов, имевших смысл поручительства, коллективной ответственности избирателей за избранных, было таково, что не могло привлекать к себе симпатий общества. Тем более что и без выборов местная администрация находилась в руках дворянства.
Не осуществился и коллегиальный порядок ландратского управления. Губернский совет ландратов не удался, как не удалась прежде в 1702–1705 годах коллегия воеводских товарищей. Коллегиальное управление не прививалось также, прежде всего, вследствие фактического недостатка в служилом персонале, того служилого «малолюдства», на которое так жалуются официальные памятники. Когда явилась потребность учредить подразделения губернии – доли, необходимо было снабдить их правительственным персоналом; но служилых людей не хватало для замещения должностей и членов губернского совета и правителей долей. Этот недостаток и вынуждал прибегнуть к совмещению функций обеих должностей, и члены губернского совета были в то же время сделаны и правителями областей. Недостаток экономических ресурсов на содержание того увеличенного административного персонала, какой потребовался бы коллегиальными учреждениями, также, может быть, сыграл свою роль при этом совмещении. Но помимо недостатка в количестве служилого персонала и ресурсов, тормозящее действие оказывало и качество этого персонала. Коллегиальный порядок управления, с которым Петр познакомился за границей, требовал для своего успеха особых качеств в администраторах, какими не отличались служилые люди петровской эпохи: большей сдержанности, большого уважения к чужому мнению, способности подчинить свою волю воле большинства. Всех этих свойств не хватало петровскому администратору, не стеснявшемуся в поступках относительно своих товарищей, которых он продолжал считать «в своей команде». Поэтому воевода «драл» бумаги, написанные его выборными товарищами, а губернатор поступал с ландратами «не яко президентски, но яко властелински» и сажал их под арест. В результате получилось полное подчинение товарищей президенту, при котором о коллегиальном порядке не могло быть и речи.
Наконец, не удалась и децентрализация местного управления. Целью губернской реформы 1707–1710 годов было расчленение прежнего единого центра на восемь областных. Все бесчисленные нити управления, протянутые из местностей, сходившиеся прежде прямо в Москву и здесь сплетавшиеся в сложный центральный узел, были теперь стянуты к восьми местным узлам, которые соединялись с главным центральным. Эти узлы сообщали нитям более натянутое положение, препятствуя им обвисать на слишком далеком расстоянии, каким было прежде расстояние между отдаленным уездом и столичным центром. Такая децентрализация управления подготовлялась ранее, B XVII веке, и губерния Петра являлась лишь завершением прежнего процесса. Но, в свою очередь, губерния была моментом в административном дроблении территории России, которое пошло дальше. Восемью губернскими центрами дело не ограничилось, нити продолжали подтягиваться, и административная сеть усложнялась. В губернии продолжался тот же порядок расчленения, результатом которого была и сама губерния. Уже в самое первое время ее существования туманно выступает неопределенная, неоформленная и недоразвитая обер-комендантская провинция. Ландратская доля, ее сменившая, представляет из себя значительный шаг вперед в областном разделении: это уже довольно правильная клетка сплетающейся административной сети. Ее правильность обусловливается искусственностью ее происхождения. В основу деления на доли был положен статистический факт, определенная цифра податного населения, а не исторические традиции и связи, так что образование доли однородно с образованием позднейшего уезда Екатерины II или французского департамента. Той же искусственности своего происхождения это разделение на доли обязано другою своею чертой: общностью для всей территории России. Вся поверхность государства раздробилась теперь на однообразные областные единицы, заменившие собою прежнюю пестроту. Вместе с тем однообразнее складывалось и управление: каждая доля была снабжена одинаковым административным персоналом. Таким образом, доля в развитии русского областного управления была моментом, занимающим середину между обер-комендантской провинцией и воеводской провинцией 1719 года.
Однако начало децентрализации преобразователь намеревался провести далее, чем это могла позволить окружающая действительность. Эти ландратские центры он стремился сделать очень самостоятельными относительно губернского. Ландрат, по мысли законодателя, должен был быть почти независимым от губернатора, действуя под контролем того совета, в котором он сам принимал участие. На практике самостоятельность такой областной единицы, какою была доля, оказалась преждевременной. Вопреки намерению расположить вновь образованные областные клетки в ряд как равноправные, действительность завязывала между ними иерархическую связь, и ландрат как правитель доли оказался совершенно подчиненным губернатору органом. Прежде всего, не следует при объяснении этого факта упускать из вида причину, действовавшую снизу, со стороны общества. Русская область была слишком долго и слишком сильно централизована. С XVI века каждый мелкий уезд был связан непосредственно с центром, и областной правитель не мог шагу шагнуть без указа сверху. Русский воевода не привык действовать самостоятельно, вот почему он не мог приобрести этой самостоятельности, когда его русское название было заменено немецким названием ландрата. Будучи теперь лишен возможности искать опоры в московском приказе, куда прежде писал бесчисленные отписки о всяком пустяке, он стал видеть ее в указе из губернской канцелярии, без которого ему и самое малое дело часто казалось «вершити немочно». Другою причиною, вредившей началу децентрализации сверху, была фискальная ответственность губернатора за губернию, продолжавшая на нем тяготеть. Центральному правительству нужны деньги, ему удобнее было обращать свои требования в этом случае к восьми-десяти губернаторам, чем почти к полутора сотне ландратов, а предъявляя это требование, оно параллельно с тем усиливало их власть в местности. Итак, действуя в одном и том же направлении, обе эти причины: и давление высшего правительства, тяготевшее над губернатором, и неспособность местной администрации действовать самостоятельно, – приводили к одному и тому же результату. Доли, на которые разделилась губерния, сложились в подчиненную губернскому центру группу; местная администрация строилась в виде иерархической лестницы. По этому типу продолжалась и ее дальнейшая эволюция, несмотря на все стремления преобразователя децентрализовать область и придать ей самостоятельное значение, положенные в основу провинциальной реформы 1719 года. Иначе и не могла развиваться местная администрация, преследующая не благоустройство местности, а удовлетворение военных и фискальных потребностей центра. Эта задача и отразилась на ее централизованном складе.