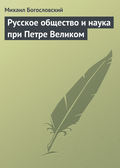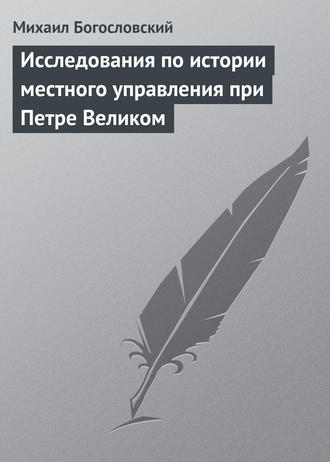
Михаил Богословский
Исследования по истории местного управления при Петре Великом
Кроме того, постоянно издавались указы, требовавшие вмешательства ландратов в городские дела, обыкновенно ради ускорения действия городской администрации в фискальных интересах, и в этих указах правительство совершенно отступало от начал, проведенных в законе 28 января 1715 года. Так, например, в 1717 году было предписано выслать из губерний в заселяемую тогда принудительными способами новую столицу на жительство купцов и ремесленников. Эти недобровольные переселенцы должны были быть избраны в городах посадскими людьми, причем губернаторам и ландратам строго запрещалось вмешиваться в эти выборы. Однако именно им же губернаторам и ландратам предписывалось «понуждать» городские власти и городское население, чтобы в этих выборах не было замедления, а легко себе представить, какими мерами и какими действиями относительно городского населения сопровождалось это ландратское «понуждение». В том же 1717 году был издан указ о приезде всех ландратов в Петербург с переписными книгами; им поручалось привезти с собой и ведомости о таможенных и кабацких сборах, заведование которыми лежало на городской администрации. Бурмистры должны были доставить эти ведомости ландратам «в самой скорости»; в противном случае ландратам предоставлено было право арестовать этих выборных городских правителей[162].
Понятно, что такие действия центрального правительства и губернских органов могли только поощрять склонность самих ландратов вмешиваться в неподведомственное им городское управление и мешали им отвыкнуть от привычек старинного воеводы. При частых нарушениях его сверху пункт закона 28 января 1715 года о самостоятельности городов не мог прочно укорениться в сознании ландратов и оставить в нем глубокий след. Упомянутый уже выше[163] псковский ландрат Лопухин в том же допросе перед Сенатом показывал далее, что он вмешивался в городские дела, между прочим, еще и потому, что бурмистры добровольно людей подсудных им «предавали в суд ему, ландрату»; но, прибавил он, если бы этого добровольного отказа городских бурмистров от своей юрисдикции и не было, то и тогда он счел бы нужным вмешиваться в городские дела, «понеже в том городе по указам имеет команду он». Итак, ландрат Лопухин считал город Псков состоящим в своей команде, совершенно забыв о началах самостоятельности городского управления. Этот же случай показывает, как иногда само городское управление шло навстречу ландратским притязаниям, частию потому, что хорошо сознавало бесплодность и опасность борьбы с ними, частью, быть может, вследствие привычки к административной опеке, приобретенной в течение XVII века. Если такой большой торговый город, как Псков, не находил ничего ненормального в том, чтобы быть в команде у ландрата, то зависимость небольших городов от ландратов могла быть только еще сильнее. Случаи протеста против ландрата очень редки. Напротив, очень нередко мы видим случаи добровольного отказа от своих прав и со стороны городских властей, и со стороны посадского населения. Приведем примеры. В 1716 году в Угличе посадский сотский хватает на улице посадского человека, сказавшего за собой «государево слово», и ведет его в земскую избу, действуя вполне согласно с указом 28 января 1715 года, сосредоточившим суд над посадскими людьми в земской избе и не делавшим исключения для дел политических. Но городские бурмистры отсылают приведенного в ландратскую канцелярию, где по этому делу производится расследование, сопровождаемое «повальным обыском» – и вот, может быть, добрая половина посадского населения Углича должна была побывать на допросе перед ландратом[164]. Мы видим также случаи, когда сами посадские люди, минуя земскую избу, идут судиться между собой к ландрату, притом по чисто посадскому делу, по какому-нибудь иску о городской лавке, и ландрат вовсе не считает этого дела себе неподсудным[165].
Все подобного рода повторявшиеся случаи вмешательства ландратов в городские дела по указам свыше от центральной или губернской власти, по собственной инициативе или по инициативе самого городского управления или населения – создавали на практике порядок отношений между ландратом и городом совсем противоположный тому, какой устанавливался законом 28 января 1715 года. По этому закону в основе отношений между ландратом и городским управлением должна была лежать независимость города от областной администрации. На практике получилось совсем иное. Городское население очутилось в значительной мере в ведомстве ландрата, а городское управление оказалось ему подчиненным. Между ним и чинами городского выборного управления стало даже устанавливаться правильное иерархическое отношение. Тотемский ландрат Карп Неелов, уезжая на время из доли, поручил править свою должность, как и следовало, состоявшему при нем комиссару Данилову-Домнину. Но когда и этому последнему настала необходимость уехать, он вместо себя определил отправлять дела в ландратской канцелярии тотемского бурмистра Алексея Чекалева, и, таким образом, бурмистр оказался исполняющим обязанности ландрата. Очевидно, что те, кто передавали ему эти обязанности, устанавливали между ним и собою определенную иерархическую связь[166].
6. Второстепенная администрация доли
Нам следует познакомиться теперь с теми вспомогательными орудиями, посредством и при помощи которых ландрат управлял своею долею и среди которых он занимал место центрального узла, стягивавшего целую сеть подчиненной ему администрации, покрывавшей собою долю.
Эта подчиненная ландрату местная администрация состояла из органов двоякого рода: одних назначало правительство, других выбирало само местное общество. К первым относятся прежде всего комиссары при ландратах. По указу 28 января 1715 года в каждой доле при ландрате должны были находиться комиссар «для управления всяких сборов и земских дел» и затем канцелярия из четырех подьячих, при которой состоят 12 конных рассыльщиков. Также, как и ландраты, комиссары назначались или, по крайней мере, утверждались в должности Сенатом[167], притом из самых разнообразных элементов. Так, мы встречаем комиссаров из царедворцев и из городовых дворян, из недорослей, из подьячих с приписью и без приписи и даже из людей боярских[168]. По закону комиссар должен был быть помощником ландрата и заместителем его в случаях его отлучки. На практике он приобретал иногда в некоторых долях значение ландратского товарища. Угличский ландрат, когда находился в доле, всегда действовал один; но в соседней бежецкой доле ландрат действовал всегда вместе с комиссаром и приговоры составлялись от имени обоих. В этом сказывалась, быть может, старинная административная привычка действовать «с товарищи», свойственная приказному и воеводскому управлению.
Таким же бюрократическим характером отличались и так называемые «управители», подчиненные ландрату. Если доля заключала в себе несколько городов с уездами, то в некоторые из этих городов, более отдаленные или более значительные, назначались особые «управители для отправления дел под ведением ландратским». Так, в тульской доле город Богородицк состоял под ведением особого управителя из царедворцев. В состав елецкой доли входили города: Елец, Талец, Ефремов, Чернь; из них в Ефремове был посажен особый управитель, «ефремовец Иван Косиченков». Иногда в руках такого управителя сосредотачивалось управление двумя городами: так, в псковской доле города Заволочье и Ржева Пустая были поручены особому управителю[169]. Лица эти заведовали сборами и производили суд, действуя подобно самим ландратам. Управителями бывали и служилые люди и подьячие; они назначались с утверждения губернатора, но были подчинены ландрату, и это подчинение сообразно с нравами времени могло быть иногда довольно интенсивно. Ржевский управитель Афросимов жаловался на псковского ландрата, под начальством которого он состоял, что тот, заподозрив его, управителя, во взятках с работных людей, «бил его дубиною и велел бить батожьем нагого смертным боем, безвинно изувечил и сделал государю неслугою». Управитель доказывал в своей челобитной, что ландрат будто бы и судить его не имел права, а не только, что бить, «того ради, что я ему товарищ». Однако губернская инстанция, которой принесена была эта жалоба, не согласилась с таким толкованием отношений управителя к ландрату, и петербургский вице-губернатор Клокачев так ответил обиженному Афросимову: «Вершить твоего дела не буду, а ежели станешь много мне о том деле говорить, велю тебя обругать»[170].
Как мы имели случай заметить выше, при образовании долей уезд не терял иногда своего старинного значения административной единицы. Точно так же сохранило свое значение и дальнейшее подразделение уезда на станы. Так, например, совпавшая с прежним уездом угличская доля, в которой считалось 5554 двора, подразделялась на 6 станов с очень неравномерным распределением между ними числа дворов: тогда как один из станов – городской – заключал в себе 2009 дворов, в другом, койском, их было всего 347. Это слишком неравномерное распределение дворов по станам, может быть, следует объяснять старинным происхождением последних.
Во главе каждого из этих станов – так было, по крайней мере, в угличской и в одной из ярославских долей, мы находим особое должностное лицо, которое носит название «станового дворянина»[171]. Незаметно, чтобы становые дворяне были выборными. По всей вероятности, они назначались самими уже ландратами, но непременно из местных помещиков. Надо при этом заметить, что становые дворяне существовали еще до введения ландратов; мы встречаем их и при комендантах, и нет ничего невозможного относить возникновение этой должности еще к XVII веку. Таким образом, ландратское управление, введенное указом 28 января 1715 года, встретилось в доле уже с готовой низшей административной организацией.
Становой дворянин был агентом местного управления и по финансовой, и по судебно-полицейской части. Его функции во многом напоминают функции теперешней уездной полиции. В финансовом отношении на нем лежали обязанности исполнительного характера. Он участвовал в производстве ландратской переписи, раздавая населению «образцовую сказку», т. е. ту образцовую ведомость, по которой население обязано было подавать о себе сведения. В некоторых местах он сам и производил перепись, принимая и проверяя подаваемые жителями стана сказки и составляя по этим сказкам переписные книги[172]. Далее, он производил сбор податей с населения стана, доставляя собранные деньги в ландратскую канцелярию, и понуждал жителей стана к исполнению возложенных на них натуральных повинностей[173]. Наконец, он исполнял разного рода предписания ландрата, относящиеся к финансовому управлению доли. Так, например, становому дворянину рожаловского стана угличской доли А. Шубинскому было предписано осенью 1715 года произвести сыск в вотчинах Алексеевского монастыря о запустении бань, служивших, как известно, предметом особого обложения. Этот сыск происходил так, что становой дворянин приглашал к себе на «съезжий двор», расположенный в одном из больших сел стана, тех лиц, показания которых ему нужно было получить, снимал с них допрос, который затем отправлял к ландрату. Постройка мельниц, служивших также предметом обложения, могла производиться только с разрешения ландрата, и поэтому в случае подачи просьбы кем-либо из землевладельцев доли о таком разрешении ландрат предписывал становому дворянину отправиться для осмотра места предполагаемой постройки[174].
В судебно-полицейском отношении становой дворянин совершал те же предварительные и исполнительные действия, которые и теперь возлагаются на уездную полицию по отношению к суду. Он принимал жалобы от потерпевших и производил предварительное дознание, которое потом передавал в комендантскую, а с 1715 года в ландратскую канцелярию. Так, например, становому дворянину верховского стана Ярославского уезда подал жалобу помещик В. И. Муранов на свою тещу в том, что она не пускает его к жене, к которой он было приехал. Становой дворянин вызвал к себе жену и тещу просителя и, сняв с них допрос, передал дело коменданту[175]. Иногда становой дворянин производит дознание по жалобе, поданной прямо ландрату. Крестьянин одной из вотчин городского стана угличской доли бил челом ландрату о том, что у него украдена была пряжа, которую, однако, он разыскал. Был послан указ к становому дворянину о расследовании дела. Становой произвел осмотр места кражи, прислал украденную пряжу в ландратскую канцелярию и, так как потерпевший заявил, что вор, разламывая крышу, должен был непременно порезать себе руку – были найдены следы крови – то становой осмотрел руки у всех крестьян той же деревни. Он же высылает в ландратскую канцелярию, отдает на поруки или на расписку причастных судебному разбирательству лиц: ответчиков и свидетелей; в случаях убийства делает осмотр и описание мертвого тела; производит повальный обыск и снимает допросы на месте. Наконец, на него же возлагается исполнение судебных решений. Так, например, становой дворянин совершает раздел земли между спорившими сторонами согласно приговору. Он отправляет также функции полиции безопасности. Он обязан следить, чтобы в его стане не было каких-нибудь беглых людей; их он обязан ловить и присылать в ландратскую канцелярию[176].
Под начальством станового дворянина состоит еще целая сеть сельской полиции, так что он далеко еще не заканчивал собою административно-полицейской лестницы. Ее последней ступенью надо считать сельского десятского. Эта полиция имела общественный характер, так как ее состав: сотские и десятские должны были поставляться местным сельским населением, и эта поставка лежала на сельском населении как особая повинность. Ландраты застали сельскую полицию уже организованной, но трудно сказать, имела ли она непрерывную связь с выборной сельской полицией XVII века, состоявшей в ведении губного управления. Один приговор министров в Ближней канцелярии, относящийся к 5 июня 1710 года, дает право думать, что этой непрерывной связи не было. Этот приговор предписывает организовать сельскую полицию, выбрав сотских, пятидесятских и десятских специально для надзора, чтобы нигде не находили себе пристанища беглые солдаты, рекруты и недоросли. Если потребовалось издать особый указ об организации выборной сельской полиции, то очевидно, что этой полиции или совсем не было, или если она существовала, то не везде. Приговор 1710 года любопытен еще в особенности тем, что он пытался привлечь к исполнению полицейских обязанностей сельское духовенство. Приход становится полицейским центром, так как приговор предписывал «съезжих дворов для народной тягости не строить, а собираться сотским у церквей». Этим сотским приходские священники обязывались подавать ежемесячные сказки под опасением очень значительного по тем временам штрафа в 15 рублей, о том, что в их приходах беглых людей и воров нет. Таким образом, приходский священник должен был явиться по этому указу в роли полицейского, следящего за тем, чтобы в его приходе не было подозрительных людей[177].
Выборы сельских сотских и десятских были произведены еще при комендантах в 1713 году, как это можно заметить по сохранившимся практическим документам; притом они были общими, а не частичными, т. е. избирался весь состав сельской полиции в стану и, по-видимому, по крайней мере в угличской доле, происходили впервые, а не имели целью лишь перемену прежнего состава избранных. Были ли они запоздалым исполнением указа 5 июня 1710 года, или состоялись в силу какого-нибудь нового указа, сказать трудно. Та часть постановлений 1710 года, которая относилась к полицейским обязанностям приходского духовенства, не была исполнена, по крайней мере, в угличской доле, которую мы особенно пристально наблюдаем. Не было здесь избрано и пятидесятских, о которых говорил указ 1710 года.
Чтобы познакомиться с порядком выборов, посмотрим подробнее, как они происходили в одном из станов Угличского уезда, койском. 4 февраля 1713 года от коменданта А. И. Нарышкина был послан указ становому дворянину о производстве выборов, которым предписывалось выбрать в сотские и десятские «людей добрых и пожиточных, и правдивых, и к таковому делу заобыкновенных». При каждом сотском должно было состоять девять человек десятских, но непременно так, чтобы по одному десятскому приходилось из каждой деревни, несмотря на ее размеры, даже хотя бы она состояла только из одного двора. Окончив выборы, становой дворянин должен был переслать коменданту избирательные протоколы с рукоприкладствами избирателей и за своею подписью и затем списки избранных чинов сельской полиции с указанием, какие селения со сколькими дворами приходятся на округ каждого сотского. Койский стан заключал в себе всего 347 крестьянских дворов. В полицейском отношении он был подразделен на три сотни, включавшие в себя по сту дворов с небольшим каждая, и поэтому для выборов состава сельской полиции состоялось три избирательных собрания. В каждом избирательном собрании участвовало далеко не все население сотни. В нем заседала только хозяйственная администрация вотчин, как частновладельческих, так и монастырских, т. е. сельские старосты и их помощники, так называемые «выборные». Эту сельскохозяйственную администрацию следует отличать от сельской полиции. Первая имела частный характер: старосты и выборные в вотчинах исполняли, главным образом, хозяйственные обязанности в имениях. Сельская выборная полиция, подчиненная становому дворянину, носила публично-правовой характер. Число членов этих избирательных сотенных собраний было в иных случаях очень ограничено, тем более что такая сельскохозяйственная администрация существовала только в крупных имениях, и ее, конечно, не было в тех деревнях, которые состояли из одного-двух дворов. Так, в состав первой сотни койского стана вошли владения восьми помещиков, в которых было 15 селений разных названий. На избирательном собрании участвовало лишь 6 членов, из которых пятеро принадлежали к одной крупной вотчине стольника Нелединского-Мелецкого, состоявшей из села Коя с деревнями. Это были староста и четверо «выборных». Таким образом, только владения двух помещиков из восьми были представлены на избирательном собрании первой сотни. Вторая сотня заключала в себе владения 13 помещиков, и только владения семи были представлены на избирательном собрании. На избирательном сходе третьей сотни присутствовало 6 членов: из них трое были – целовальник и выборные вотчины угличского Покровского монастыря, один – староста вотчины Антониева монастыря и двое старост частновладельческих вотчин. Итак, эти избирательные собрания были не чем иным, как сходами сельских властей крупных имений; они-то и производили назначения сотских и десятских из жителей селений сотни. Так как число селений в сотне было обыкновенно больше, чем сколько надо было избрать в десятские, то, вопреки указу, десятский назначался не в каждой деревне. Зато в двух сотнях избрано было десятских по десяти вместо девяти, требуемых указом.