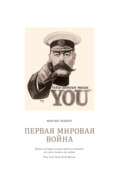Мартин Гилберт
Черчилль. Биография
«Они были низкорослые, примерно на метр ниже меня, и мы двигались практически без сопротивления. Пять или шесть лошадей были ранены, но в основном мы не пострадали. Наверное, это были самые опасные две минуты в моей жизни», – говорил Черчилль Гамильтону.
Кавалерийская атака завершилась, враг был рассеян. Из 310 солдат и офицеров один офицер и 20 солдат погибли, 4 офицера и 45 солдат получили ранения. «И все это за 120 секунд! – заметил Черчилль. – Я сделал ровно десять выстрелов и опустошил магазин, но лошадь не потеряла ни единого волоска, а моя одежда осталась целехонькой. Очень мало кто может сказать то же самое».
«На месте сражения, – писал потом Черчилль, – я видел разрозненных солдат противника и отдельные стычки. Я не раздумывая, стреляя, пустился рысью в их сторону и нескольких убил. Троих – наверняка. Затем огляделся и увидел, что дервиши перестраивают ряды. Мы поразили почти половину, но они вновь оказались на ногах. Наблюдая из седла за их перегруппировкой, я вдруг осознал, что вся эта толпа находится буквально в двух десятках метров. Я тупо смотрел на них в течение, наверное, пары секунд. Затем увидел, как двое опустились на колено и навели на меня винтовки, – мне угрожала реальная опасность».
Черчилль развернулся и помчался назад. Вслед грохнуло два выстрела. «На такой дистанции это было по-настоящему опасно, – рассказывал он Гамильтону, – но пуль я не слышал, непонятно, куда они стреляли. Я пустил лошадь в галоп и присоединился к своим. Через несколько мгновений среди солдат появился дервиш. Как он там оказался, понятия не имею. Наверное, затаился в кустарнике или какой-то яме. Солдаты направили на него пики, но он яростно отбивался копьем, и на миг произвел сильное замешательство. Я выстрелил в него почти в упор. Он рухнул на песок как подкошенный».
Черчилль переформировал свой взвод, собрав пятнадцать солдат. Он сказал, что их могут еще не раз отправить в атаку. Услышав это, один воскликнул: «Хорошо, сэр, мы готовы, сколько прикажете». Когда Черчилль спросил своего сержанта, понравилось ли ему сражение, тот ответил: «Не скажу, чтобы очень понравилось, сэр, но, наверное, в другой раз будет привычнее». Вспоминая все это недели две спустя, Черчилль писал Гамильтону: «Никаким образом не хочу выделять себя, но, поскольку хладнокровие мне не изменило, моя самооценка, безусловно, выросла».
Было 9:15 утра. Дервиши отступали. Черчилль хотел, чтобы полк продолжил наступление. «Никогда солдаты не проявляли такого рвения, – писал он матери. – Я сказал своему взводу, что они лучшие в мире, и уверен, что они пойдут за мной до конца, а это – я могу сказать тебе и только тебе – очень далекий путь. В такие моменты испытываешь огромный душевный подъем. Я пытался убедить адъютанта повторить атаку. Пусть мы потеряли бы еще пятьдесят-шестьдесят человек, но это была бы историческая победа. Но пока продолжалось совещание, возобновлять ли наступление, с поля сражения потянулась страшная вереница: окровавленные лошади, солдаты с ужасными ранами от крючковатых копий, торчащих из тел, искромсанные, с вываливающимися кишками, теряющие сознание и умирающие на наших глазах. Ни о какой кавалерийской атаке уже не могло быть и речи. Горячие головы командиров остыли, – продолжал он, – и до конца дня полк действовал чрезвычайно осмотрительно».
Черчилль был уверен, что наступление должно быть продолжено. «Новая атака, – писал он Гамильтону, – должна была быть удачной, пока офицеры и солдаты не отошли от горячки боя. Пехота, разумеется, принесла бы больше пользы, но мне хотелось вскочить в седло – pour la gloire[14] – и встряхнуть нашу кавалерию. Но через час мы все немного остыли, и я с большим облегчением понял, что с «героизмом», по крайней мере на сегодняшний день, покончено».
Уланы направились туда, где можно было спешиться и открыть огонь из ружей по флангу противника. После нескольких минут интенсивной перестрелки дервиши отступили. Уланы вернулись к ложбине, которую атаковали ранее. Там они остановились позавтракать. «В этой ложбине, – вспоминал позже Черчилль, – было тридцать-сорок убитых дервишей. Среди них лежали тела наших двадцати уланов, изрубленных и изувеченных практически до неузнаваемости».
Этим утром, по мере победного продвижения к Хартуму, тысячи раненых дервишей были добиты. Черчилль, не принимавший в этом участия, был потрясен. «Победа при Омдурмане, – позже написал он матери, – дискредитирована бесчеловечным убийством раненых, за что несет ответственность Китченер».
Из Хартума Черчиллю удалось отправить матери телеграмму из трех слов: «Все хорошо. Уинстон». Тем же вечером один офицер, друг его матери, тоже послал ей телеграмму: «Большой бой. Отличное зрелище. Уинстон молодец». В письме к матери через два дня после кавалерийской атаки Черчилль писал: «Ни в какой момент я не чувствовал ни малейшей нервозности и был спокоен, как сейчас. Сама атака не вызывала такой тревоги, как отступление 16 сентября прошлого года. Она промелькнула как сон, и кое-чего я просто не могу вспомнить. Дервиши не испытывали никакого страха пред кавалерией и не сходили с места, пока их не убивали. Они пытались подрезать коленные сухожилия наших лошадей, разрезать уздечки, поводья, словом, резали и кололи во все стороны и стреляли из винтовок с расстояния нескольких метров. Меня не задело. Я уничтожал тех, кто мне угрожал, и мчался дальше».
Одним из офицеров, погибших в этой атаке, оказался Роберт Гренфелл, с которым Черчилль познакомился по дороге из Каира. «Для меня, – писал Черчилль матери, – это перечеркнуло всю радость и возбуждение». Еще двое его друзей получили ранения. Погиб и Хьюберт Ховард, который остался невредим во время атаки, но по иронии судьбы был убит своим же артиллерийским снарядом. Узнав, что Ховард убит, а другой корреспондент Times ранен, Черчилль понял, что газета осталась без корреспондентов, и отправился в штаб армии. Там он спросил у своего друга, полковника Уингейта, можно ли отправить телеграмму. Уингейт согласился, и Черчилль, не мешкая, написал на имя редактора Times в Каире развернутую информацию о бое и кавалерийской атаке. Телеграмма прошла цензуру, но Китченер не разрешил ее посылать. «Не сомневаюсь, – написал Черчилль редактору две недели спустя, – Китченер отказал бы в этом любому действующему офицеру, но ни одному с таким удовольствием, как мне».
Через два дня после сражения Черчилль выехал из Хартума на поле битвы. «Я хотел подобрать несколько пик, – объяснил он матери и добавил: – Я напишу историю этой войны». То, что он там увидел, подтвердило суровую реальность. Было убито более десяти тысяч дервишей, около пятнадцати тысяч – ранено. Тяжелораненых бросили умирать на поле боя. Картина была ужасной. Черчилль увидел сотни тяжелораненых, которые трое суток ползком добирались до берега Нила и умирали у воды или, потеряв силы, лежали в кустах. Описывая это в книге «Война на реке» (The River War), он заметил: «Возможно, боги запретили человеку месть, потому что решили оставить себе столь пьянящий напиток. Но чаша не допита. Осадок отвратителен на вкус».
В своей книге Черчилль особенно откровенно критиковал Китченера. По поводу убийств раненых дервишей он написал: «Суровость и безжалостность командующего передавались войскам, и победы сопровождались актами варварства, не всегда оправданного даже дикими и жестокими обычаями дервишей». В Хартуме Черчилль посетил развалины священной гробницы Махди. «По приказу сэра Китченера, – писал он в «Войне на реке», – гробница была осквернена и сровнена с землей. Тело Махди выкопали. Голова была отделена от туловища и – цитирую официальное разъяснение – «сохранена для дальнейшего размещения». Эту фразу можно понять так, что ее собирались передавать из рук в руки до Каира».
В пассаже, который особенно разозлил Китченера, Черчилль добавил: «Если народу Судана Махди был неинтересен, то уничтожение единственного прекрасного сооружения, которое могло бы привлекать туристов и было бы интересно историкам, – это вандализм и недальновидность. Можно считать мрачным событием для Судана, что первое же действие цивилизованных завоевателей и нынешних правителей заключалось в уничтожении его единственной достопримечательности. Если, с другой стороны, народ Судана по-прежнему почитал память Махди, а более 50 000 человек всего неделю назад ожесточенно сражались, отстаивая свою веру, тогда я, не колеблясь, могу заявить, что уничтожение почитаемой ими святыни – безнравственный поступок, к которому истинный христианин в не меньшей степени, чем философ, должен испытывать отвращение».
Откровенность Черчилля наживала ему врагов на протяжении всей карьеры, но его характер произвел благоприятное впечатление на одного из сослуживцев, капитана Фрэнка Генри Идона, который в письме домой на той неделе отметил: «Он очень приятный и веселый парень. Он очень мне нравится и, кажется, унаследовал некоторые способности своего отца».
Готовясь к отъезду из Хартума, Черчилль узнал, что его сослуживцу, тяжелораненому офицеру Ричарду Молино, требуется срочная пересадка кожи. Он немедленно предложил свою, и необходимый кусок был вырезан у него с груди. «Это было чертовски больно», – вспоминал он позже. Через сорок семь лет Молино написал Черчиллю, который в то время был уже премьер-министром: «Я никогда не упоминал об этом, опасаясь, что меня сочтут хвастуном». Черчилль ответил: «Большое спасибо, дорогой Дик. Я часто думаю о тех давних днях, и мне было бы приятно, если бы ты демонстрировал этот кусок кожи. Сам я часто показываю место, с которого он был вырезан».
Черчиллю не терпелось вернуться в Лондон. Его злило, писал он матери, что Китченер «из мелкой зависти распорядился, чтобы я сопровождал транспорт, двигающийся долгим медленным маршем в Атбару. Почему? Разве не достаточно было рисковать жизнью и остаться в живых?». Продвигаясь на юг, он получил телеграмму от редактора Times, который просил его поработать корреспондентом на фронте. «Уже поздно, – ответил он, – но я тронут комплиментами в мой адрес». Тогда же он прочитал о грядущей морской операции Британии у острова Крит, где турки жестоко расправились с несколькими сотнями греков-христиан. В очередной раз он задумался об изменении планов, желая стать свидетелем новой военной кампании и описать ее. «Когда Фортуна в хорошем настроении, – говорил он матери, – нужно ловить удачу за хвост».
В письмах домой он размышлял о гибели Хьюберта Ховарда. «Ховард принадлежал к типу суровых ветеранов, – написал он леди Рэндольф. – Без малейших усилий могу представить, как он во всех подробностях описал бы тебе смерть твоего молодого сына».
Критский кризис, как это бывало и раньше, закончился слишком быстро, чтобы Черчилль успел им воспользоваться. Он возвращался в Лондон. «Не могу отделаться от ощущения, – писал ему принц Уэльский, – что более всего вам подходят парламентская и литературная деятельность. Монотонность армейской жизни и пребывание в Индии не привлекательны». По возвращении Черчилль выступил перед публикой в лондонском районе Ротерхайт, а затем в Дувре. Там, писал он матери, «в какой-то момент я потерял ход мысли и замолчал на некоторое время, пока не обрел его снова. Но, похоже, на это не обратили внимания». Действительно, в газетах его выступления освещались подробно и доброжелательно.
Финансовое положение Черчилля улучшалось. Morning Post заплатила 220 фунтов за письма из Судана. Ему также предложили 100 фунтов за публикацию романа в газете частями, что было большой редкостью. Это составляло 13 000 фунтов по курсу 1990 г.
Слухи о неизбежном приходе Черчилля в политику множились. В начале ноября статья в World утверждала, что он уходит из армии, чтобы занять должность секретаря заместителя военного министра Джорджа Уиндэма, и в самое ближайшее время станет членом парламента. «У него наверняка получится, – было написано в статье. – У него огромные амбиции, огромный апломб и безграничная энергия. Он унаследовал отцовские способности, и кроме того, он хороший оратор».
Но Черчиллю надо было возвращаться в Индию, в свой полк. Перед отъездом он оценил проницательность Памелы Плоуден, которой увлекся в Хайдарабаде. В конце ноября он написал ей, что она была права, предупреждая о его «способности наживать врагов», но утверждал, что ошибалась, считая, что он «не способен на чувство». Он писал: «Есть человек, которого я люблю больше других. И я буду ему верен. Я не ветреный ухажер, следующий мимолетным увлечениям. Моя любовь глубока и сильна. И ничто этого не изменит. Не исключаю, что буду разменивать ее на мелочи. Но большая ее часть останется неизменной – неизменной до самой смерти. Кто же тот человек, которого я так люблю? Знаешь, как говорят французы – «я скажу это на другой странице». Искренне твой, Уинстон С. Черчилль».
Отпраздновав двадцать четвертый день рождения, Черчилль отправился из Лондона в Индию. Проехав Европу на поезде, он сел на корабль в Бриндизи. «Осирис» уйдет не раньше полуночи, – писал он тетушке Леони 2 декабря, – но, боюсь, у меня вскоре начнется морская болезнь. Ненавижу море и испытываю органическое отвращение к путешествиям. Но такова уж моя судьба». А уже с борта «Осириса» он писал Джеку: «Проклятый корабль! Даже капитана тошнит. Никогда больше не стану путешествовать».
Черчилль решил в ближайшие полгода уйти из армии и заняться политикой, пока же свободное от службы время он посвящал книге. «Я сегодня не в духе, – писал он матери 29 декабря. – Работаю все утро, и никакого толку. Как-то не складывается, хотя стараюсь. Но не чувствую такой энергии, как в Англии, и упадок ее подавляет меня. Какой-то полный застой в мыслях». Вспоминая о Китченере, он добавил, что книга «становится довольно острой. Мой бывший командующий, как я теперь понимаю, вульгарный, примитивный и грубый человек».
Своему кузену Айвору Гесту Черчилль писал: «Работа над книгой напоминает жизнь в странном мире, ограниченном с севера Предисловием, а с юга – Приложением, а все остальное состоит из глав и параграфов. Не рассчитываю, что книга поможет обрести друзей. Впрочем, друзья дешевого пошиба не имеют большого значения. В конце концов, когда пишешь серьезную вещь, надо быть честным».
Черчилль предостерегал кузена от излишней критики католичества и ритуальности. «Я сам против римско-католических ритуалов, – пояснял он, – и предпочитаю протестантизм, поскольку убежден, что реформаторская церковь менее погрязла в догматах. Протестантизм в любом случае на шаг ближе к Разуму. Но в то же время я представляю себе бедных прихожан, рабочий люд, которые изо дня в день заняты изнурительным трудом и чья жизнь проходит среди мерзких фабричных стен. Их жизнь лишена даже намека на прекрасное. И я понимаю их желание приблизиться к чему-то, не пораженному уродством, удовлетворяющему стремление к чуду, к чему-то, хоть как-то приближенному к «всемирной Красоте». Мне было бы трудно лишить их этого, даже если это выражается в сжигании еретиков, ношении ряс и в прочих предрассудках. Вообще люди, которые много думают о загробной жизни, редко понимают ее. Человек должен использовать разум. Суеверие редко способствует развитию. Короче говоря, католицизм (да и все религии, если угодно, но католицизм в особенности) – всего лишь приятный наркотик, который может унять боль и прогнать тревогу, но сдерживает рост и подрывает силы. А поскольку улучшение британской породы – моя цель в жизни как политика, я не допущу слишком большого потворства религии, если смогу препятствовать этому без нарушения другого великого принципа – Свободы».
В начале 1899 г. Черчилль из Индии прислал матери кусок своей новой книги. Он был посвящен чтимому дервишами пророку Махди, который в детстве остался сиротой. «Одинокие деревья, – писал Черчилль, – если вырастают, то вырастают крепкими. И мальчик, лишенный отцовской заботы, если ему удается избежать опасностей юности, зачастую развивает независимость и силу мысли, которые с большой силой могут проявиться в будущем после тяжелых уроков в юные годы».
Черчилль писал матери и о британской политике: «Чемберлен серьезно сдает позиции. Я инстинктивно чувствую это. И знаю, что прав. У меня нюх на такие вещи. Возможно, это наследственное». В феврале он получил письмо от Роберта Эскрофта, депутата парламента от Олдема – избирательного округа, который направлял двух депутатов в Вестминстер. Эскрофт просил Черчилля выступить вместе с ним на следующих всеобщих выборах вместо другого члена Консервативной партии, который собирался подать в отставку по болезни. Черчилль согласился. Тем самым воплощение мечты о парламенте стало на шаг ближе. Через месяц он осуществил свою последнюю мечту в Индии, сыграв в межполковом турнире по поло, причем перед этим он вывихнул плечо, и руку приходилось привязывать к телу. Команда Черчилля выиграла турнир. Из ее участников Альберт Савори позже погибнет в Англо-бурской войне, Реджинальд Барнс дослужится до звания генерала, Реджинальд Хор – до бригадира, и оба доживут до того времени, когда Черчилль станет премьер-министром.
В третью неделю марта Черчилль покинул Индию и отправился в Лондон. Нога его больше никогда не ступит на эту землю. Он был уверен, что поступил правильно, отказавшись от армейской службы. «Если бы армия была для меня во всех смыслах выгоднее, – писал он своей бабушке Мальборо на пути домой, – я бы еще подумал, не продолжить ли службу. Но я могу жить дешевле и зарабатывать больше как писатель или журналист. Эта работа намного ближе мне по духу и с большей вероятностью поможет в достижении более важных целей в жизни. Тем не менее расставаться было тяжело. Очень жаль было прощаться с друзьями и в последний раз надевать форму с медалями».
По дороге в Англию Черчилль на две недели остановился в Египте. Он решил побеседовать с теми, кто мог быть полезен ему в работе над книгой. «Возможность описать в книге войну как тяжелую работу, а не просто поверхностно критиковать ее, – писал он матери, – слишком важна, чтобы не воспользоваться ею». В Каире он три раза встречался с британским представителем лордом Кромером. Каждая беседа длилась более полутора часов. Черчилль выяснил многое о Судане и гибели Гордона. Лорд Кромер также представил его хедиву Аббасу Холми, официальному правителю Египта. «Его поведение, – вспоминал впоследствии Черчилль, – напоминало поведение школьника, которого привели знакомиться с другим школьником в присутствии директора».
Письма, посланные посылал матери из Каира, Черчилль диктовал. «Когда я диктую письма, – пояснял он, – они получаются простыми и естественными, и кроме того, мне кажется, это хорошая тренировка беглой устной речи. Я диктую их стенографистке так быстро, как только она успевает записывать, и получается гладко».
В середине апреля Черчилль вернулся в Лондон. Вскоре после этого скончалась его бабушка, герцогиня Мальборо. Но он не допускал и мысли, что траур может помешать его политической деятельности. Черчилль выступил не только в Олдеме, но еще и в Паддингтоне и Кардиффе. 2 мая, во время званого ужина, на котором присутствовали Асквит и Бальфур, последний, как писал Черчилль матери, был с ним «предельно любезен, внимательно слушал и со всем соглашался».
Черчилль собирался баллотироваться от Олдема на ближайших всеобщих выборах примерно через год. Но 19 июня умер Эскрофт, и были объявлены внеочередные выборы. За шесть дней Черчилль подготовил предвыборное обращение. Он называл себя консерватором и одновременно тори-демократом. «Я считаю улучшение условий жизни британского народа главной задачей правительства. В случае избрания собираюсь лоббировать законы, которые будут способствовать развитию экономики, от чего зависит благосостояние государства. А от этого, – говорил он, – в свою очередь, зависит уровень жизни в каждом английском доме. Кроме того, посредством принятия законов я стремлюсь к лучшему обеспечению пожилых бедняков». Черчилль собирался бороться против гомруля – этой, как он говорил, «одиозной меры». Что касается торговли спиртным, он был за умеренность, но против насильственного насаждения трезвости путем лишения лицензий общественных заведений; в международной политике считал правильным продолжать курс Солсбери, обеспечивающий господство на морях и безопасность границ империи.
Избирательная кампания шла активно. «У меня хорошо получается, – написал Черчилль кузену Санни в самом начале. – Я считаю всех, кто задает мне вопросы. Сколь бы радикальной ни была аудитория, меня всегда встречают с большим энтузиазмом, но в то же время настроения явно против партии тори, и у меня складывается впечатление, что мы проиграем. Наша штаб-квартира присылает из Лондона тупых ораторов, а у либералов гораздо лучше и плакаты, и пропаганда».
В последние дни кампании Черчилль выступал по восемь раз за день. «Сейчас я вынужден постоянно выступать, – рассказывал он Памеле Плоуден. – К чему бы это ни привело, я никогда не забуду огромных залов, битком набитых возбужденными людьми. Выступление за выступлением, встреча за встречей; три, даже четыре за вечер. Мои речи становятся раз за разом лучше. Я практически не повторяюсь. На каждой встрече я ощущаю растущую силу и возможности слова».
Подсчет голосов происходил 6 июля. «Что касается мистера Черчилля, – сообщала Manchester Courier, – он спокойно наблюдал за подсчетом. Улыбка играла на его лице, а результаты выборов его не расстроили». Черчилль и его коллега от консерваторов проиграли, но результаты оказались почти равными. Кандидаты от Либеральной партии набрали по 12 976 и 12 770 голосов соответственно, Черчилль – 11 477, а его партнер, местный тред-юнионист, 11 449. За попыткой Черчилля пройти в парламент следили все главные действующие лица британской политики. «Уинстон боролся блестяще, но его округ отличается непостоянством», – написал премьер-министр лорд Солсбери леди Рэндольф. Она также получила письмо от Асквита – либерала, при котором позже ее сын займет высокий пост. «Хороша была борьба Уинстона в Олдеме, – писал он. – Она принесла ему признание».
Бальфур, будущий лидер партии Черчилля, а затем его оппонент, написал ему: «Очень надеюсь увидеть тебя в парламенте, где мы с твоим отцом в минувшие годы бок о бок выдержали не одну битву. Не переживай, все будет хорошо. Это временное поражение не окажет воздействия на твое политическое будущее». Действительно, участие в выборах, несмотря на поражение, было полезно. «Я теперь гораздо легче говорю без подготовки», – рассказывал Черчилль другу.
Черчилль хотел посвятить свою новую книгу лорду Солсбери, и тот ответил согласием на его просьбу об этом. «Я не забыл вашей доброты, – написал Черчилль, – того, что вы помогли мне принять участие в последней кампании». 9 августа, когда Черчилль писал это письмо, он не думал о дальнейшей военной деятельности. Но уже месяц спустя, в письме одному политику из Бирмингема, который просил его выступить, сообщал: «Предполагаю, в ноябре начнется война в Трансваале, и тогда я поеду туда военным корреспондентом». А еще через пять дней Черчилль получил телеграмму от Daily Mail, в которой ему предлагали отправиться их собственным корреспондентом в Южную Африку. Он незамедлительно отправил телеграмму своему другу Оливеру Бортвику в Morning Post, рассказав о Daily Mail и предложив свои услуги также и Morning Post – на четыре месяца за 1000 фунтов с оплатой всех расходов. Эта сумма была эквивалентна 40 000 фунтам по курсу 1990 г. Условия были приняты.
Чемберлен согласился дать рекомендательное письмо к сэру Альфреду Милнеру, британскому губернатору Капской колонии, который был намерен покончить с независимостью двух бурских республик – Трансваалем и Оранжевой. Переговоры между Милнером и руководителями этих республик затянулись. Ни одна из сторон не была готова к компромиссу. Война казалась неминуемой. Черчилль был занят подготовкой к отъезду. У него возник необыкновенный план: он хотел взять с собой кинокамеру и оператора, чтобы снять фильм о войне. По его расчетам, на это требовалось 700 фунтов. Молодой член парламента Мюррей Гатри, его свойственник, согласился предоставить половину этой суммы.
6 октября Черчилль написал формальное заявление о зачислении в Британский добровольческий кавалерийский полк. В письме он просил рассмотреть его заявление как можно скорее: «Я отплываю в Южную Африку 14 октября, и для меня имеет значение получить статус офицера прежде, чем начнется война». Впрочем, письмо он не отправил, выяснив, что легче будет получить назначение на месте, поскольку один из друзей отца служил адъютантом в 9‑й добровольческой бригаде. Но сначала он должен был увидеть боевые действия не как офицер, а как журналист. В тот же день, 6 октября, он отремонтировал свою подзорную трубу, полевой бинокль и купил компас. Он также договорился о том, чтобы на борт доставили восемнадцать бутылок виски и двенадцать бутылок сока лайма.
9 октября буры выдвинули Британии ультиматум с требование вывести войска с территории республик. Ультиматум остался без ответа, и 12 октября прозвучали первые выстрелы, ознаменовавшие начало войны. В этот день Черчилль ездил в Олдем на свою последнюю встречу с общественностью. Он не расстался с надеждой победить либералов на следующих выборах, когда бы они ни состоялись. Через два дня в Лондоне он узнал, что одна американская кинокомпания уже отправила съемочную группу в Южную Африку. В тот же день он отправился поездом в Саутгемптон. Из поезда он написал Гатри: «По-прежнему рассчитываю снять фильм. Не сомневаюсь, что смогу получить весьма интересные кадры, если не помешают какие-либо неожиданности. Но конкуренция с американцами – это большой финансовый риск, и опасаюсь, все кинотеатры будут связаны с этой американской компанией».
Ранним вечером в сопровождении бывшего отцовского слуги Томаса Уолдена Черчилль отправился из Саутгемптона в Кейптаун. Там уже начиналась его третья за два года война.