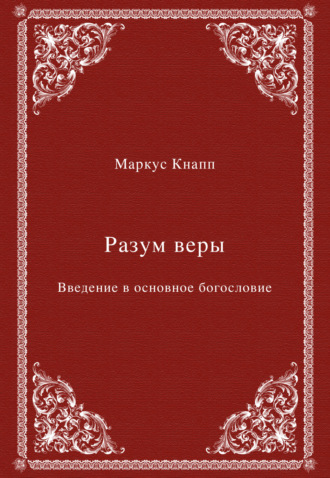
Маркус Кнапп
Разум веры. Введение в основное богословие
IV. Католическое основное богословие после Второго Ватикана
Мы ограничимся здесь германоязычным пространством, и этого будет достаточно, чтобы окинуть взглядом необходимый спектр новых подходов в основном богословии, по крайней мере тех, в которых оно понимается и концептуализируется как именно теологическая дисциплина.
Мы сознательно обходим стороной, в частности, распространенную в англосаксонском мире «аналитическую философию религии» (для ознакомления см.: Hick, 1990; Alston, 1991; Plantinga, 2000; Laube, 1999), которая за последние десятилетия коснулась многих вопросов основного богословия. Есть веские сомнения в том, что здесь действительно возможно продвижение основного богословия, а не движение в сторону нового тупика. Ибо аналитическая философия религии «отчетливо направляется не просто к рациональному, но к рационалистическому рассмотрению религиозных проблем. Ее манера ставить вопросы не обращена или, во всяком случае, не в первую очередь обращена на феномены религиозной жизни, но погружена в проблемы естественных наук (разработки в области физики, космологии, биологии), теории науки (верификация и фальсификация гипотез, вопросы объяснения и обоснования), социологии (общественная релевантность религиозных убеждений, религиозный плюрализм). Разумеется, все эти проблемы важны. Однако придание абсолютного значения им и связанным с ними методологическим предпочтениям приводит к односторонности восприятия и сужению проблематики. Религиозно-философская мысль этого рода связана с такой постановкой вопроса, при которой эпистемологически нивелируются различия между религиозными жизненными ориентациями и нерелигиозным знанием, а религия оказывается, в лучшем случае, особым видом (предположительного) знания наряду с другими» (Dalferth, 2003b, 96). Но тем самым изначально упускается своеобразие религиозного свершения и настроения, а с ним и самопонимание христианского основания веры (в смысле «веры, ищущей понимания»), т. е. то, благодаря чему оно занимает центральное место в основном богословии.
1. Карл Ранер: трансцендентальное основное богословие
Как Блондель почти пятью десятилетиями ранее, Карл Ранер (1904–1984) в своей книге 1941 г. с программным названием «Слушатель слова» ставит вопрос об отношении человека к сверхъестественному откровению. Ранер также старался исправить ошибки антропологического опосредования в апологетике, или основном богословии. Для этого ему нужно было показать, что в человеке имеется «способность к послушанию» (potentia oboedientialis) для свободно приходящего откровения Божия (Werner, 2003, 29–192). Путем, который Ранеру при этом пришлось проложить, была метафизика конечного духа. Во всех своих свершениях из области конечного и ограниченного этот дух стоит в отношении к бесконечному горизонту, непостижимой тайне. Он и постигать конечное как конечное может лишь потому, что сам находится в таком бесконечном горизонте, остающимся априорным условием возможности для всякого акта человеческого познания и воли.
Эта трансцендентально-философская данность показывает, согласно Ранеру, что человек, как конечный дух, способен воспринять сверхъестественное откровение, поскольку он всегда неотъемлемо, априорно стоит в отношении к этому трансцендентальному горизонту. И даже более того, человек обязан безусловно повиноваться такому откровению, если таким образом ему открывается всеобъемлющая тайна. Ибо, если бы он отказался от послушания, это противоречило бы его собственной сущности как конечного духа.
Ранер прилагает усилия к тому, чтобы представить эту данность в порядке строго философской аргументации, т. е. без каких-либо теологических предпосылок. Тем не менее, он признает, что это философское доказательство входит в сферу задач богослова, ибо речь здесь идет о заложенных в субъекте априорных условиях возможности быть слушателем Божественного Откровения. Именно демонстрацию этой трансцендентально- философской данности Ранер представляет в «Слушателе слова» как специальную задачу основного богословия.
Позднее в центр теологии Ранера ставится понятие «сверхъестественного экзистенциала». Вместе с тем меняется и его аргументация в основном богословии (Verweyen, 1986b). Теперь Ранер придерживается мнения, что даже простая предрасположенность человека к принятию откровения от Бога нуждается в сверхъестественном просвещении. Таким образом, ход аргументации в основном богословии подпадает под богословские предпосылки (теологии благодати), как можно видеть в «Основаниях веры» (1976). Теперь Ранер усматривает начало движения к трансцендентному в трансцендентальном опыте всегда действенным, но обязательно – при согласии человека (пусть даже часто неосознанном), «ибо именно в этом акте (трансценденции. – М. К.), и только в нем, переживается то, что истинно есть» (Rahner, 1977, 76). Когда человек осознанно отклоняет это от себя, он вступает в противоречие с самим собой. Наоборот, в сознательном «Да» человек обнаруживает «свою подлинную истину именно за счет того, что невозмутимо выдерживает и принимает эту необъемлемость своей собственной действительности, о которой ему известно» (Rahner, 1977, 53). Так человек может отказаться от уверенности в себе и доверчиво предаться всеобъемлющей тайне.
Ибо «человек, который вообще допустил себя до трансцендентального опыта священной тайны, опытно познает, что эта тайна является не только бесконечно удаленным горизонтом, отрешенной и издалека направляющей судьбой того мира, в котором он существует и которому причастен, а также его сознания, не только тревогой, что заставляет его отступать вглубь убогой территории родины-повседневности, но также защищающей близостью, прощающей интимностью, самой родиной, любовью, которая дает себя в приобщение, тем сокровенным (das Heimliche), где можно спастись от тревожности (Unheimlichkeit) пустой и незащищенной жизни» (Rahner, 1977, 137).
Тем не менее для Ранера конкретное обращение к миру остается необходимым, поскольку трансцендентальный опыт не происходит в «безвоздушном пространстве», но в категориальной взаимосвязи мира и его истории. Этот пункт стал решающим для дальнейшего оправдания веры в основном богословии.
По Ранеру, переданные от человека человеку изречения веры могут претендовать на вероятность лишь тогда, когда они находятся в согласии с трансцендентальным опытом человека. Это значит, что христианское послание откровения тематизирует и подвергает сознательной рефлексии то, что уже дано в обеспеченном категориальной историчностью трансцендентальном опыте, и находит в нем свое подтверждение. Однако верно и обратное – исторические события, на которые ссылается христианская вера, необходимы как подтверждение трансцендентального опыта. Он побуждает людей, с одной стороны, искать «абсолютного спасителя», а с другой – устанавливает критерий, на основании которого можно судить о том, действительно ли конкретное историческое событие оказывается тем самым чаемым и ожидаемым событием спасения и утверждается разумом как таковое. Отсюда вероубеждение идет «по кругу взаимной обусловленности трансцендентального опыта благодати и исторического восприятия принимаемых на веру событий» (Rahner, 1977, 237).
Основной заботой Ранера была критика забвения субъекта, которое имело место в традиционном основном богословии, и, тем самым, возвращение содержательной стороны веры в состояние связности с человеческим опытом для выявления ее достоверности. Чтобы этого достигнуть, он должен был пересмотреть заявленное в «Слушателе слова» притязание на чисто философскую аргументацию и положить в основу своей версии основного богословия предпосылки, взятые из христианской веры в откровение. «Трансцендентально- философский вопрос о субъекте, условиях возможности познания и его предметах, таким образом, попадает в смысловую сферу этого фактического откровения о спасении, переживает трансцендентально-богословское углубление» (Reikerstorfer, 2000, 256). Здесь у Ранера основное богословие теряет до сих пор присущий ему сугубо оборонительный характер. Ибо принятием «сверхъестественного экзистенциала» в том смысле, в каком о нем говорит Ранер, утверждается «в некотором роде преизбыток христианства над церковью» (Flury, 1972, 362). Впоследствии Ранер попытается дальше развить эту линию в своей спорной теории об «анонимном христианине» (см., напр., Rahner, 1968; Rahner, 1972; Hilberath, 1995, 147–160).
Трансцендентальный подход к основному богословию также представляет в своих многочисленных публикациях по данной дисциплине Генрих Фриз (1911–1998). Основное богословие задается вопросами об основоположениях, под которыми «понимаются предпосылки и условия возможности богословия». Точнее, оно задается «вопросом о вере в собственном смысле и вопросом о ее корреляте – откровении как принципе всякого богословия с его особенным содержанием, а также вопросом о его посредстве, то есть о Церкви, поскольку она является носительницей и содержит в себе традицию передачи откровения» (Fries, 1985, 13). Центром дискурса основного богословия является при этом трансцендентально-богословский вопрос об откровении. Он имеет ввиду не содержание откровения, а сущность и феномен откровения «для всех религий и специальных теологий» (Fries, 1972, 344). Ведь некое откровение является почвой и истоком для всякой теологии. Но в этом качестве, «в качестве трансцендентально-богословского целого, откровение предполагается отдельными богословскими дисциплинами» (Fries, 1972, 345). Разъяснить это фундаментальное положение – задача основного богословия. При этом оно не предполагает какого-то всеобщего понятия об откровении, но исходит из христианского опыта его. «Здесь имеет силу все то же разграничение между историческим опытом и трансцендентальной априорной рефлексией, которое дано уже в исторически экзистирующем духе: в непредвзятом принятии опыта, никогда не постигаемого адекватно его историческим рефлексом, человек осмысляет априорные условия возможности этого действительного опыта и добивается, наконец, его настоящего понимания» (Fries, 1972, 345). С этой рефлексией над условием возможности откровения соотносится доказательство предрасположенности человека к исторически реальному откровению. Ибо христианская вера «только в том случае возможна, если в человеке, в определенных для него условиях даны возможность христианской веры и ее схема, если человек так составлен, что он может веровать, и именно в смысле христианской веры. Если же этих условий возможности не дано, если их нельзя доказать, то христианская вера в целом и в частности чужда действительному, она есть нечто показное, идеологическое, и серьезно спрашивать о ней нельзя» (Fries, 1985, 14). Фриз приписывает основному богословию особые экуменические возможности и задачи, поскольку его фундаментальные проблемы сегодня стали для всех христианских конфессий центральным запросом и вызовом. Тем самым они сделались для конфессий чем-то объединяющим (Fries, 1973, 224 и далее). К этому Фриз прибавляет и миссионерский характер основного богословия. Так как оно получает свои доказательства не от веры, но «ссылаясь на рациональную, философскую и историческую аргументацию» (Fries, 1972, 347), оно обращено прежде всего к неверующим. Оно, «как наука о встрече откровения и человека, отыскивает последнего в непосредственности его сознания, в его человеческом бытии, в его ситуации и экзистенции, желая ввести его в соприкосновение с откровением» (Fries, 1972, 349).
2. Ганс Урс фон Бальтазар: основное богословие как «Созерцательное учение»
В трансцендентальный метод, как его практиковал Ранер, внес значительные поправки швейцарский теолог Ганс Урс фон Бальтазар (1905–1988). Он был убежден:
«Критерием подлинности христианского не способна быть ни религиозная философия, ни экзистенция. В философии человек раскрывает то, что ему может быть известно об основаниях бытия, в экзистенции он проживает то, что может прожить. Христианское уничтожается, если оно позволяет свести себя к трансцендентальной предпосылке самоочевидности в мысли или жизни, знании или действии» (Balthasar, 1966, 33; ср. Verweyen, 2006a, 392–394).
Бальтазар видел в этом неоправданную переоценку субъективных факторов вероубеждения, и перед ним вставал вопрос, «не находится ли все это направление под угрозой тайного, а иногда и явного философизма, где внутренняя мера стремящегося духа, обозначается ли она как “пустота” и “полость”, как “cor inquietum”[56], как “potentia oboedientialis”, так или иначе, сделана мерой откровения» (Balthasar, 1988, 142). Но, проблематизируя метод имманентности, Бальтазар не хочет вернуться к экстринзецистскому[57], опирающемуся на внешние признаки познанию достоверности предметов веры. Ведь и этот метод, «который различает между непрозрачным для верующего содержанием веры и свидетельствующими об истинности этого содержания “признаками”» (Balthasar, 1988, 166 след.), видится ему потерпевшим неудачу. Напротив, речь для него идет о «пути между Сциллой экстринзецизма и Харибдой имманентизма» (Balthasar, 1966, 33). Этот путь Бальтазар видит в богословской эстетике, имея ввиду восприятие образа (Gestalt) Иисуса Христа. Ибо во Христе сияет сокровенная тайна Божья, Его величие, которое проявляется как безусловная любовь, дарующая себя в суверенной свободе.
Поэтому Бальтазар переходит к реабилитации категории прекрасного, одной из классических трансценденталий бытия. Ведь «Бог приходит к нам прежде всего не Учителем (“Истинным”) или действенным “Избавителем” (“Благим”), но СОБОЮ, чтобы явить великолепие Своей вечной триединой любви и осиять нас той “незаинтересованностью”[58], которая присуща истинной любви, как и красоте» (Balthasar, 1965, 27 след.). Эта красота должна быть воспринята по-новому. В ней являет себя творческая свобода, которая открывает воспринимающему нечто для него удивительное, непредсказуемое. «То, что противостоит нам, потрясает как чудо и потому никогда не постигается переживающим, но как чудо овладевает его пониманием: оно есть одновременно пленяющее и освобождающее, недвусмысленно дающее себя как “свобода в явлении” (Шиллер) по внутренней непостижимой необходимости… Такое совпадение невозможности для меня самого с убедительнейшей правдоподобностью для меня есть только в царстве незаинтересованно прекрасного» (Balthasar, 1966, 34 след.). Соответственно, это представляет собой единственный адекватный доступ к откровению Божию, ибо лишь в сиянии его красоты может быть показана его достоверность. В разработке этого подхода видел Бальтазар задачу обновленного основного богословия, которое он концептуализировал как «созерцательное учение» – «эстетику (в кантовском смысле) как учение о восприятии образа являющего Себя Бога» (Balthasar, 1988, 118).
Христос есть основание всего христианства, а потому восприятие Его образа должно обосновывать и нести на себе всю христианскую веру. Но для этого недостаточны вероятностные суждения. Чтобы функция обоснования была исполнена, требуется очевидность, «и очевидность не субъективная, а объективная». Бальтазар подразумевает под ней такую очевидность, «которая самим феноменом сияет и высветляется, а не такую, которая обосновывается через удовлетворение потребностей субъекта» (Balthasar, 1988, 446). Таким образом, образ откровения должен сам собой подвигать человека к согласию, поскольку он выполняет определенную функцию для него и может послужить достижению человеком его предназначения.
Такая объективная очевидность кажется возможной, когда в образе откровения проявляется нечто само по себе ценное и воспринимается человеком. Однако «субъективное условие возможности восприятия (…) ни при каких обстоятельствах не может вмешиваться в состав объективных доказательств предмета или просто создавать и заменять их» (Balthasar, 1988, 447). Вся достоверность откровения утверждается, по Бальтазару, на том, что оно не подчинено человеческим потребностям и обусловленностям и не зависит от них, но являет себя как то, что само по себе ценно, и ценно в высшей степени. Это чудо, светящее из самого себя, и именно как таковое оно убеждает и побуждает к согласию.
И как таковое само по себе ценное открывает себя единственно Божественная любовь. Она есть то, что в образе Иисуса – Его вочеловечении, смерти на кресте и воскресении из мертвых – оказывается доступно восприятию. Эта любовь есть то, что для человека в высшей степени великолепно, чудесно и непостижимо, чего он не может исследовать, но может лишь позволить этому захватить себя, как захватывает и приводит в восторг великое произведение искусства.
«“Понимание” открывающегося в обоих случаях не есть подведение под искусственные категории знания; ни любовь в свободе своего дара, ни красота в своей бесцельности не “aufzuleisten”[59] (Рильке), и тем более “потребностью” субъекта. Редукция к “потребности” была циническим надругательством эгоизма над любовью; лишь в принятии чистого дара со стороны Возлюбленного может любящий обнаружить полноту своей любви» (Balthasar, 1966, 34 след.).
С этим способен согласиться и разум. Он, согласно Бальтазару, не вступает заранее в игру с верой, как введение к ней, но «выполняет подчиненную вере функцию» (Körner, 1987, 144). Только так может он отдать должное откровению, ибо слава открывающей себя Божественной любви понуждает и разум к самоосознанию и исправлению. Требуется «покаяние не только сердца, которое перед лицом этой любви должно признать, что до сих пор не любило», но и «покаяние мысли, которая до того должна заново научиться тому, что такое любовь» (Balthasar, 1966, 40). Только тогда разум сможет раскрыть для себя полноту смысла откровения, так что не существует познания достоверности веры, которое было бы полностью независимым от согласия с откровением. Пожалуй, есть «начальное понимание образа откровения, в котором нельзя отказать естественно-историческому человеку, на которое он постоянно наталкивается и которое требует объяснения». Он может при помощи своего разума познать и проследить контуры и пропорции этого образа. Но такое познание будет «схематичным, начальным, ущербным». Лишь после того как человек совершит акт веры, «он понимает, что это за милость – быть привлеченным Богом, когда наше собственное бессилие преодолевается силой Христа, а с ним и все спроецированные субъективностью предвосхищения мысли и воображения преодолеваются совершенно иной очевидностью, которая происходит из самой вещи» (Balthasar, 1988, 182 след.).
Этим определением отношений между разумом и верой обусловлен профиль основного богословия как «созерцательного учения». Отсюда путь к откровению в основном богословии состоит «не в опосредовании его для нехристианских “пространств понимания”» (Disse, 1994, 152). Напротив, речь идет скорее о том, чтобы подготовить почву к надлежащему восприятию откровения, при котором оно сможет явить само себя. Бальтазар называет здесь четыре задачи, в разработке которых основное богословие способно дать проявиться «объективному качеству» откровения Христа:
1. «Созерцательное проникновение в собственные пропорции, очертания и равнодействующие образа»;
2. «Верификация образа веры в экзистенции», когда проявляются как ее «экзистенциальная мощь», так и «ее собственная жизненность»;
3. «Саморазличение образа от всех остальных мировых религиозных образов», чем показывается присущая ему объективная очевидность;
4. «Доказательство того, что этот образ ускользает от всякого, кто не удерживает его в поле зрения» (Balthasar, 1988, 463).
Главное стремление Бальтазара состоит в защите откровения и веры Христовой от субъективистского приспособления и масштабирования. Против них он подчеркивает «объективизм веры» (Balthasar, 1988, 174). Все человеческие пред- и приданности к откровению он подозревает в желании ограничить его и манипулировать им. Но, естественно, Бальтазар также знает о том, что откровение хочет и должно достигнуть человека, быть им воспринятым. Оно есть не менее чем «удовлетворение… всего философско-мифологического человеческого вопрошания» (Balthasar, 1988, 138). Откровение, таким образом, не есть что-то чуждое человеку, но встречает его в его сердце, в глубине. Но чтобы эта встреча произошла, человек должен себя к откровению приблизить и приспособить – именно так, а не наоборот. «Речь идет… о некоем соответствии между человеческой экзистенцией как целым и образом Христа; не только интеллектуальные, но прежде всего экзистенциальные условия должны быть соблюдены, чтобы образ, отвечающий этой целостной экзистенции, нашел в ней для себя слух» (Balthasar, 1988, 446). В этом смысле Бальтазар соглашается также с «так называемым “методом имманентности” Блонделя» (Balthasar, 1988, 446). Но для него является принципиальным то, что образ откровения независим от предпонимания человека, его ожиданий, потребностей или опыта. «Предпонимание, в сущности, не есть нечто такое, что субъект привносит как вклад в христианское познание, оно само необходимо дано ему в простом, объективном факте, что Бог стал Человеком и тем самым привел Себя в соответствие общечеловеческим формам существования и мысли. Но Свое особенное бытие Он может сообщить в этих всеобщих формах лишь от Себя» (Balthasar, 1988, 447).


