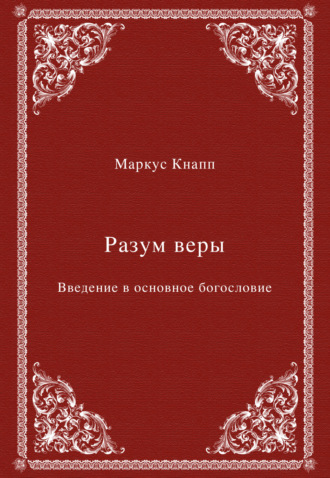
Маркус Кнапп
Разум веры. Введение в основное богословие
При этом Фома вовсе не желает отвергнуть возможность философского богопознания, как ее обосновал еще Аристотель. Фома безоговорочно признает ее, но при этом различает два неодинаковых способа богопознания. Так, философский разум действительно – исходя из чувственного опыта – может познать, что Бог существует, а также Его единство, Его благость, Его совершенство, Его вечность и прочее (т. н. свойства Бога). Однако разум не может познать, что есть Бог в Самом Себе, т. е. Его Сущность и Его волю. Поэтому в отношении к вопросу богопознания Фома мог говорить о «двух путях истины» («duplex veritatis modus»: Сумма против язычников, I. 3), а именно об истине разума и истине откровения. Они не противостоят друг другу, но друг друга дополняют. Разум постигает Бога, в известном смысле, лишь «внешне», тогда как откровение показывает Его «изнутри». Следовательно, истина откровения стоит несомненно выше, хотя истина разума не теряет от этого своего значения. Более того, Фома настаивает на том, что «необходимо прибегать к естественному разуму, с которым все вынуждены соглашаться» (Сумма против язычников, I. 2). Ведь перед неверующими нельзя ссылаться на авторитет Писания, который они не признают. Остается доказывать средствами философской аргументации, что принятие полагаемого в вере существования Бога не противоразумно.
Помимо этого, Фома приписывает естественному разуму еще большее значение для веры. Если утверждаемое радикальными аристотеликами положение о двойственной истине ложно, а истина разума и истина откровения не могут друг другу противоречить, то можно установить, что возражения, выдвигаемые разумом против веры, самим же разумом отвергаются и оказываются неразумными (Сумма против язычников, I. 7; Сумма теологии, I. 1. 8). Следовательно, разум осуществляет «функцию фильтра» (Knauer, 1991, 395 след.) для веры, опровергая направленные против нее возражения и показывая, что разумных возражений против нее нет.
Несмотря на то, что истина откровения не может быть охвачена разумом, утверждение веры все же не является слепым или легковерным. Бог, согласно Фоме, сделал откровение познаваемым и удостоверяемым при помощи внешних, для всех постижимых знамений (Сумма против язычников, I. 6). Фома упоминает в качестве таковых чудеса исцеления и воскрешения мертвых; но наибольшее из этих знамений он видит в том, что люди через откровение Божье заставляют себя отвернуться от видимого и полностью устремиться к невидимому, к Богу и Его спасению.
Итак, Фома вполне точно различает разум и откровение. Он стремится как можно более точно установить «дальность» обоих по отношению к познанию Бога, прежде всего для того, чтобы противостоять неумеренным положениям радикального аристотелизма. Для Фомы уже не существует того плавного перехода между разумом и откровением, который постулировался в патристической концепции христианства как истинной философии. Согласно Фоме, истина откровения водворяется, скорее, за пределами человеческого разума. То, что естественный разум способен узнать о Боге, есть не предмет догматов веры, а лишь движение по направлению к нему (praeambula ad articulos fidei) (Сумма теологии, I. 2. 2).
Однако Фома не доводит до разрыва между разумом и откровением; на основе их точного различения он добивается нового синтеза между ними, придерживаясь недвусмысленного убеждения в том, что разум остается необходимым для веры. Он не мыслит их состоящими в отношениях соперничества или противоречия. «Ибо вера предполагает естественные знания, как и благодать предполагает природу, и совершенство предполагает нечто, что может усовершенствоваться» (Сумма теологии, I. 2. 2). Между разумом и верой в откровение существует «взаимосвязь взаимных критических отсылок» (Honnefelder, 1992, 74). Вера подразумевает естественную способность ума, которая, в некотором смысле, готовит для нее почву и поддерживает ее, когда отражает возражения. Откровение Божье затем открывает человеку то, что уму из-за ограниченности недоступно. Такое определение отношений разума и откровения требует, чтобы богословие оставило философию свободной в ее автономии, даже если синтез знания, в конце концов, может быть только богословским, поскольку подразумевает знание сверхъестественной цели, установленной Богом.
Здесь, в отличие от Ансельма, раскрытие внутренней разумности откровения и веры в откровение уже вряд ли возможно. Углубленное понимание веры, intellectus fidei, обретает строгие границы, если вместе с Фомой исходить из того, что богооткровенная истина превосходит человеческий разум и не может быть им охвачена. Фома сам понимал это: «Для изложения подобного рода истины следует приводить кое-какие правдоподобные доводы (rationes verisimiles)» (Сумма против язычников, I. 9). Без какого-либо доступа к пониманию истина откровения была бы совершенно закрыта для человека. Однако Фома здесь же добавляет, что изложение этих оснований достоверности нужно только «ради упражнения и утешения верных, а не ради пере- убеждения противников: ибо сама недостаточность этих доводов (rationum insufficientia) лишь пуще утвердила бы их в их заблуждении; они решили бы, что мы соглашаемся с истиной веры на основании столь слабых доводов (propter tam debiles rationes)» (Сумма против язычников, I. 9). Таким образом, доказательства, на которые опирается intellectus fidei, больше не могут, как у Ансельма, служить в качестве rationes necessariae; скорее, имеются только rationes debiles, которые, как таковые, остаются недостаточными. Отсюда понятно, что апологетические устремления Фомы, направленные вовне, на неверующих, должны были опираться на основания другого рода: «Единственный способ убедить противника подобной [т. е. богооткровенной] истины – обратиться к авторитету Писания, подкрепленному божественными чудесами» (Сумма против язычников, I. 9). Если убедительные внутренние основания для принятия богооткровенной истины отсутствуют, то в качестве аргументов остаются лишь внешние признаки (dann bleiben als Argumente nur die äußeren Zeichen)
Этот чрезвычайно шаткий синтез разума и откровения, который еще до некоторой степени удался Фоме в Средние века, затем распался в позднем Средневековье, когда сама предпосылка, на которой он был основан, оказалась поставлена под вопрос. В концепции Фомы разуму могла быть приписана некая способность богопознания, поскольку Фома (как и Аристотель) исходил из того, что Бог и мир состоят в необходимой взаимосвязи. Бог является здесь первопричиной всей действительности, которая определенным образом Им упорядочивается. Поэтому Бог также для разума познаваем настолько, насколько тот может постичь эту взаимосвязь между Богом и миром. В позднее Средневековье произошел разрыв между разумом и откровением, поскольку необходимая взаимосвязь между Богом и миром уже более не казалась совместимой с идеей Бога; более того, внедрилось убеждение, что тем самым умаляется суверенитет Бога. Позднесредневековая теология оперировала при этом, главным образом, аспектами всемогущества и абсолютной свободы Бога. Так, Бог ни в коей мере не может быть подчинен необходимости, Он есть абсолютная способность (potentia absoluta) и мог бы устроить все существующее совершенно иначе. Следовательно, разум не может из опыта мира ничего выводить в отношении Бога; естественное богопознание теперь казалось едва ли возможным (Weischedel, 1979, 144 след.). Чтобы познать Бога, человеку остается полагаться на откровение. Отсюда происходило дальнейшее отслоение теологии от философии, и теология теперь основывалась лишь на свидетельстве об откровении, переданном Церковью. Очень остроумно это было сформулировано у Уильяма из Оккама (ок. 1285–1347): «Авторитет Церкви превышает все возможности постижения человеческого духа (tota ingenii humani capacitas)» (О таинстве алтаря, 36). Если Фома придавал философскому разуму, на фоне веры в откровение, четко ограниченную, но необходимую функциональность, то теперь этот разум утратил всякое существенное значение. Напротив, несущей опорой веры в откровение стал авторитет Церкви, которая передает, возвещает и разъясняет послание откровения.
3. В Новое время
Позднесредневековый разрыв между разумом и верой в откровение продолжил усугубляться у реформаторов (Ebeling, 1981, 79–99; Lohse, 1983, 166–168). Особенно четко это выразилось у Мартина Лютера (1483–1546). Так, в его тезисах для диспута против схоластической теологии в сентябре 1517 г. сказано: «Ошибка – утверждать, что без Аристотеля нельзя стать богословом. Наоборот, нельзя стать богословом иначе, кроме как без Аристотеля… Короче говоря, весь Аристотель относится к богословию как тьма к свету» (WA[40] 1, 226.14–16.26). Таким образом, теология может заниматься своим делом только тогда, когда держит себя подальше от Аристотеля, т. е. от философии. Истинное богопознание должно, по Лютеру, основываться только на откровении. Философский разум способен лишь затемнять познанное в откровении. Ведь «чем больше ты пытаешься утвердиться в разуме (ratio), тем дальше ты отходишь от Бога» (WA 9, 448.37–449.1). Откровение Божье находится, по Лютеру, в самом решительном противоречии со всякого рода естественным, разумным богопознанием. Бог может быть обретен только в Иисусе Христе. Точнее даже: «В распятом Христе – истинное богословие и богопознание» (WA 1, 362,18 след.). Отсюда все, что разум может, как думали, познать о Боге, оказывается мечтой, иллюзией или фантазией. Откровение Бога в распятом Христе противоречит всему, что представляется божественным человеческому разуму.
Для Лютера попытка привести разум и откровение в отношения гармонии выглядела совершенно нелепой. Их отношения могут быть правильно восприняты лишь как противоречие. Таким образом, позднесредневековый разрыв между разумом и верой в откровение был существенным образом углублен.
При этом вопрос об ответственности вероубеждения[41] существенным образом оказался под угрозой. Как мы видели, в позднем Средневековье набрал силу авторитет Церкви как гаранта истины откровения. Здесь Реформация внесла новый акцент в содержание, формально не переходя обозначенной линии. Для Лютера и других реформаторов уже не Церковь была полномочным свидетелем откровения, но лишь Писание (sola scriptura), которому в норме должна была подчиняться и Церковь. Формально, однако, эти два разных основания сошлись в идее опоры на авторитет, который должен действовать как последняя, не вызывающая вопросов инстанция, обеспечивающая истине откровения надежное и обязательное посредство, а тем самым и ее достоверность. Роль, которую Фома отводил внешним знакам Божественного присутствия, теперь была возложена на последний и обязательный авторитет.
Чем больше разум утрачивал кредит доверия в богословии, тем меньше мог он отвечать запросу на понимание веры (intellectus fidei) и соответствующим апологетическим устремлениям. Зато теологическая дискредитация разума обратилась против самой теологии, что привело уже в Новое время к чрезвычайно напряженным и конфликтным отношениям между философским разумом и христианской верой в откровение. Философия не могла принять ни Писание, ни Церковь в качестве последнего авторитета, обеспечивающего уверенность в Божественном откровении и его притязаниях на истину. Не в последнюю очередь на почве конфессионального противостояния и религиозной войны XVII и XVIII веков, потрясших общество в его основаниях, сам разум начал становиться инстанцией, которая должна была подвести притязание на истину веры в откровение под испытание критикой.
С XV века ситуация в апологетике изменилась и еще в одном отношении. Все больше в центре внимания оказывался вопрос об истинной Церкви Иисуса Христа. Исходной точкой этого процесса стало появление консилиаризма – движения, которое на фоне Великой западной схизмы (1378–1417)[42] утверждало, что Всеобщий Собор должен стоять либо всегда, либо, по крайней мере, в определенных исключительных случаях, выше папства. В ходе борьбы с консилиаристскими идеями появился апологетический церковный трактат, в котором рассматривался вопрос об истинной Церкви. Важнейшими авторами в XV в. были теологи-доминиканцы Иоанн из Рагузы[43] и Иоанн де Торквемада[44].
Эта переориентация апологетики нашла свое продолжение в ходе критики Римской Церкви со стороны реформаторов. Лютер делал различие между внешней (видимой) и духовной (невидимой) Церковью. В своем труде «О папстве в Риме против высокоименитых романистов в Лейпциге» Лютер озвучил свое утверждение, что в Символе веры говорится лишь о невидимой Церкви, основанной Крещением и проповедью Евангелия. «Мы все видим внешнюю Римскую церковь; поэтому она не может быть настоящей Церковью, в которую надлежит веровать. Последняя есть общество собрания святых в вере; но никому не видно, кто – свят, и кто – верует» (WA 6.300.38–301.2). Итак, эта внешняя, видимая Церковь не относится «даже к настоящему христианству и есть лишь человеческое учреждение» (WA 6.301.9f). Решающий упрек Лютера против Римской Церкви гласил, что свой особый человеческий порядок она поставила на место Христа и Евангелия, чтобы таким образом приобрести господство над всеми христианами и их верой. «Вы хотите ввести новый род веры, а именно, чтобы мы веровали в то, что видим плотскими очами, тогда как по природе своей вера относится к вещам, которых никто не видит и не воспринимает» (WA 6.322.14–16).
Богословские споры об истинной Церкви, развившиеся на почве реформаторской критики римо-католического ее понимания, определили в будущем значительную часть апологетики. Новый импульс им придал уже в 1529 г. францисканец Николай Фербер из Херборна своим произведением «Трактат о признаках, отличающих Церковь от Блудницы»[45]. Само название этого труда показывает, что в центре полемики об истинной Церкви находилось учение о «признаках Церкви» (notae ecclesiae), т. е. о четырех атрибутах, которыми описывал ее Никео-Константинопольский Символ веры. Как сторона реформаторов, так и сторона католиков исходили из того, что истинная Церковь может быть узнана по этим атрибутам.
Впоследствии, в ходе нововременного развития апологетические усилия обособились в теологии от учебного процесса, и в связи с этим произошло их тематическое разделение. Исходной точкой для этого был вновь поставленный в контексте Ренессанса вопрос об истинной религии, например, у Марсилио Фичино в XV веке и у Хуана Луиса Вивеса, друга Эразма Роттердамского, в XVI веке (Niemann, 1984, 99–124, 134–141; Heinz, 1984, 24–32). При этом, наряду с противостоянием иудаизму и исламу, речь шла, прежде всего, о сопротивлении неоязыческой религиозности, которая начала распространяться в связи с новым открытием античности. Сперва старались доказать, что религия есть нечто, сущностно относящееся к человеку, чтобы затем продемонстрировать, как в христианстве религия осуществляет свою высшую форму. Последнее разъяснялось при помощи противопоставления христианства нехристианским религиям.
Из этих устремлений исходил французский кальвинист Филипп Дюплесси-Морне (1549–1623) (Niemann, 1984, 141–156; Heinz, 1984, 32–43). Вначале он опубликовал текст под названием «Трактат о Церкви»[46] (1578), в котором пытался в порядке конфессиональной апологетики доказать, что протестантизм есть истинная и единственно легитимная форма христианства. В следующем труде «Об истине христианской религии»[47] (1581) ему уже пришлось выйти за пределы конфессионального спора, чтобы изложить взгляд на христианство как истинную религию. При этом он имел в виду широкий спектр противников: иудеев, мусульман, атеистов, язычников и прочих неверных. Новое в сравнении с предшественниками состояло в том, что у Дюплесси-Морне истинная религия обязательно должна опираться на откровение Божье. Таким образом, он ввел формальный критерий для оценки религий, встречающихся в истории. Этот критерий виделся ему основанным на испорченности человеческой природы из-за первородного греха. Поэтому, если человек действительно хочет познать Бога, чтобы правильно поклоняться Ему и, таким образом, находить свое спасение, то это должно быть дано ему Богом на пути откровения.
Католический ответ Дюплесси-Морне пришел от Пьера Шаррона (1541–1601), знакомца Монтеня (Niemann, 1984, 156–167; Heinz, 1984, 51–63). В своем впервые опубликованном в 1593 г. труде «Три истины»[48] он ответил на обе публикации Дюплесси- Морне. Так возникло трехчленное деление апологетической задачи: апология религии, направленная против «атеистов»; апология христианства, направленная против «иудеев и магометан»; апология Римо-Католической Церкви, направленная против «еретиков». Этот впервые установленный Шарроном тематический канон впоследствии стал классическим стандартом апологетики католицизма.
Для самого Шаррона основная тяжесть возлагалась, несомненно, на третью тему; впоследствии к ней будут присматриваться наиболее пристально. В полемике с Дюплесси-Морне Шаррон старался доказать, что Католическая Церковь есть истинная Церковь; в качестве критериев он приводил ее возраст, ее всемирную распространенность, ее внутреннее единство и святость, но равным образом и сохранение своего апостольского происхождения в управлении и учении. В двух других темах Шаррон, однако, полностью совпадает со своими противниками. Для него, как и для них, религия есть нечто необходимо присущее человеку в связи с исполнением им своего предназначения.
Особенным у Шаррона является то, что он явственно выражает отношение к феномену «естественной религии», в частности, оспаривая ее достаточность для человеческого спасения. Здесь он также выступает первопроходцем, обращая свою критику против деизма, который впервые становится заметным в XVI веке, а затем, в XVII веке, приобретает широкий круг последователей (Vergauwen, 1995, 113–115). По мнению деистов, религиям откровения предшествует религия естественная, основанная на разуме. Она выступает как равноспасительное ядро всех религий и должна быть применена к ним как критическая мерка, чтобы очистить их от всего противоразумного.
Вступая в полемику с этим деистическим пониманием религии, Шаррон прежде всего ставит под вопрос надежность разума и опыта. Он утверждает, что религия на основе разума не может предоставить человеку никакой удостоверенности. Напротив, она должна утверждаться на Божественном авторитете, который один возвышается над всяким сомнением. Так, особенное и наиболее важное в христианстве виделось ему в вере без понимания, ибо требовать оснований – значило бы разрушать авторитет Бога. Тем самым в апологетике Нового времени была продолжена линия, начатая в позднем Средневековье. «Первая ощутимая для нас, особенная реакция католической апологетики на основания деистической критики откровения заключалась в до сих пор незнакомом для традиции большой теологии, враждебном разуму закреплении формального принципа авторитета. Вес усилий по защите веры сместился полностью к уже и до того считавшемуся важным методу внешнего уверения» (Heinz, 1984, 61).
Это проявилось и у третьего автора, которому принадлежит особо важное значение в эмансипации апологетики в Новое время – нидерландского гуманиста Гуго Гроция (1583–1645), который в первую очередь считается отцом современного естественного права и родоначальником права народов (Niemann, 1984, 167–190; Heinz, 1984, 43–51; Biser, 1975, 26 след.). Он был автором и апологетического труда, а именно опубликованного в 1627 г. сочинения «Об истине христианской религии»[49], которое во множестве переводов широко распространилось по всей Европе и произвело большое впечатление. Новое и судьбоносное для дальнейшей истории апологетики обстоятельство заключалось в том, что Гроций четко отделил апологетику от догматики, т. е. от содержания христианской веры, ибо защиту содержания веры он считал невозможной. Целью его апологетики, вместо этого, было доказательство божественного источника христианства – если его происхождение будет возведено к Богу, то оно и будет основано на авторитете Бога. Требуемые доказательства Гроций, в соответствии со своим отказом от всякой содержательности, мог видеть исключительно во внешних критериях, о которых говорит Писание. Чтобы обосновать их надежность, он должен был оправдать достоверность Библии как исторического источника. Поэтому Гроций старался опровергнуть возражения, выдвигавшиеся против нее на протяжении всей истории. Целью его аргументации было с несомненностью представить чудеса Иисуса и Его воскресение как основание божественного происхождения христианства. «Иисус доказывается теперь – и здесь, несомненно, есть новая веха – уже не как “Сын Божий (Filius Dei)”, а только как “Божественный посланник (legatus divinus)”. Мотив Гроция состоял в том, чтобы объединить христианство в общем этическом праксисе без догматических раздоров» (Niemann, 1984, 190). Таким образом, он стоит у истоков строго исторического обоснования христианской апологетики, ядром которой является аргумент от чуда.
Такая стратегия аргументации в дальнейшем, начиная с XVIII века, была проблематизирована появившейся библейской критикой. Историко-критическое исследование библейских текстов выявляло в них противоречия и неправильности, систематически подрывая уверенность в том, что мы имеем дело с надежными источниками Божественного откровения. Это укрепляло деистическую точку зрения в стремлении ограничить религию ядром необходимых истин разума и отклонить утверждение о спасительных сверхъестественных откровениях. Готтхольд Эфраим Лессинг объявил, наконец, историческое обоснование религиозных истин принципиально невозможным: «Для высоких требований разума историческая истина, которая всегда может быть введена только в качестве гипотезы, недостаточна. Истинная, т. е. согласная с разумом религия не может быть обоснована в истории, в области случайного» (Vergauwen, 1995, 123).
Богословская апологетика решительно втянулась в эту библейскую критику – например, бенедиктинец Беда Майр в своем четырехтомнике 1787–1789 гг. «Защита естественной, христианской и католической религии» (Niemann, 1984, 271–297; Heinz, 1984, 208 след.). Но при этом она еще не вышла за рамки аргумента от чуда. Таким образом, и на фундаментальную критику Лессингом исторического обоснования христианства через ссылку на Божественное откровение в истории не могло было быть дано убедительного ответа.
Говоря вообще, апологетика, как она сформировалась, по крайней мере, в католической теологии к концу XVIII века, не представляла собой чарующей картины. Это впечатление тем более подтверждалось по мере того, как данная форма апологетики закреплялась и воспроизводилась в неосхоластике с середины XIX в. Да, она практически без ограничений доминировала в богословском учебном процессе и пособиях к нему на протяжении примерно 150-ти лет; но при этом она носила характер чисто оборонительный, т. е. старалась лишь отразить поставленные извне, от имени разума неудобные вопросы против религии, христианства и Церкви, не затрудняя себя задачей доказательного прояснения веры и придания ей правдоподобности. Основной причиной такой скудости был свершившийся по итогам позднего Средневековья разрыв между разумом и откровением. Теперь считалось невозможным воспринимать саму веру как разумную и обеспечивать ее более глубокое понимание. Вместо этого должно было обосновываться христианское притязание на истину, путем обнаружения Божественного истока христианства и Церкви. Истина веры как таковой совершенно не подлежала обсуждению. Таким образом, это поле было оставлено – без должного осознания того, что произошло – за критически настроенным в отношении религии и христианства рационализмом.
Отсюда вытекали далеко идущие последствия для понимания веры. В контексте такой апологетики вера понималась «в первую очередь как согласие с открытыми Богом и предложенными Церковью истинами» (Schmitz, 1969, 201). Субъективные факторы, сущностно входящие в утверждение веры и в акт веры, оставались полностью затемненными. Правда, «не отрицалось, что вера сама по себе является сложным целым, включающим в себя сознание, волю и благодать. Но для суждения о достоверности веры воля и благодать не рассматривались как конститутивные элементы». Здесь «принимались во внимание почти исключительно объективные и внешние критерии откровения, а доказательство его действительности утверждалось на чудесах и предсказаниях. Все это стали называть “объективной апологетикой”» (Schmitz, 1969, 201). Но то была своего рода половинчатая апологетика, которая полностью оставляла в тени человека как адресата посланничества откровения, человека с его вопросами, опытом, страхами и упованиями. Поэтому неудивительно, что эта апологетика не оставила о себе глубокого впечатления во внетеологических кругах, и даже во внутрицерковном пространстве едва ли могла быть воспринимаема как действенная. Отсюда и «разразившийся в ХХ веке провал апологетики» (Seckler, 1993, 839).
Внутрибогословский контекст апологетики еще раз изменился с конца XVIII века, но без существенного влияния на ее концепцию. После того, как она, начиная с Дюплесси-Морне и Шаррона, эмансипировалась в Новое время, апологетика теперь вновь была включена в систематическое богословие в качестве введения в догматику (Heinz, 1984, 226–268). Произошло это вследствие государственной реорганизации богословского обучения сначала в Австрии (1774), а затем в Баварии (1777). Цель реформы состояла в преодолении схоластически ориентированных методов обучения и замене их богословием, полностью построенном на откровении. Его источником отныне должны были служить не античные философы и главы богословских школ, но Писание и Традиция. Именно в такой связи догматике предпосылались апологетические трактаты; они должны были обосновывать богословскую систему и вводить в нее. При этом внешняя защита веры ни в коем случае не отпадала, и дальше оставаясь важной задачей. Только теперь она была подчинена требованиям систематического строения богословия, становясь, тем самым, фундаментом всей теологии. В пределах догматики она не обслуживала определенные истины веры, но демонстрировала, прежде всего, действительность Божественного откровения, а также то, что Церковь была учреждена как его хранительница и толковательница. В саму стратегию апологетической аргументации не привносилось этим ничего существенно нового.
Однако изменение в постановке задачи постепенно привело к тому, что эта дисциплина стала обозначаться как основное богословие. Наконец, с середины XIX века началось его выделение в качестве самостоятельного предмета. Наряду с апологетикой, в него вошло обоснование теологии как науки, а также ее внутреннего единства и структуры.
Относительно структуры различаются две формы основного богословия (Schmitz, 1969, 199 след.; Wagner H., 1983, 742). Одна из них – «немецкая», распространившаяся преимущественно в университетах Германии. Она охватывает, в основном, религиозно-философское «обоснование религии» (demonstratio religiosa), которое занимается такими вопросами, как познаваемость Бога или подчинение человека Богу; «обоснование христианства» (demonstratio christiana), которым показывается осуществление откровения Божья в Иисусе Христе и его достоверность; и «обоснование католицизма» (demonstratio catholica), в котором идет речь о доказательствах учреждения Церкви Иисусом Христом и ее тождества с Римо-Католической Церковью. Можно сказать, этот тип структуры ориентируется на тот путь, которым должен идти человек, чтобы добраться до Божественного авторитета, содержащегося в Католической Церкви. В отличие от него «романская», т. е. распространенная в римских учреждениях форма основного богословия содержит лишь demonstratio christiana и demonstratio catholica. Demonstratio religiosa отнесена здесь к философии религии. Вместо нее наличествует богословское учение о началах (Prinzipienlehre), т. е. об источниках и принципах богословского познания, которое в Германии обычно понимается как введение в догматику и помещается в соответствующем разделе. Разумеется, различение этих двух структур является идеально-типологическим; в реальном обучении практикуются смешанные формы. Однако, во всяком случае, наличие данных двух форм основного богословия показывает, что уже со времени появления этого предмета его идентичность была и остается спорной. Если за «романской» формой очевидно понимание предмета больше как пролегомен к догматике, то за «немецкой» больше проявляется взгляд на основное богословие как предмет на границе философии с теологией.
Основное богословие и в концептуально расширенной форме изначально было захвачено объективистской конфигурацией апологетики Нового времени. Поэтому в начале ХХ века оно нуждалось в обновлении, которое могло было быть достигнуто лишь при разрыве границ этого объективизма и устранении его недостатков (Geffré, 1969, 420 след.). Субъективные факторы веры и вероубеждения должны были быть теперь приняты во внимание. Главный изъян «объективистской апологетики» и основного богословия состоял в том, что в них суждение о достоверности веры покоилось на одних внешних критериях, тогда как внутренние основания вероубеждения полностью игнорировались; здесь «развивалась рациональная мотивировка веры вне связи с ее живыми мотивами» (Geffré, 1969, 420). Так произошло отслоение веры от полноты человеческой жизни, причем было полностью упущено из виду то обстоятельство, что подлинная вера есть всегда свободный экзистенциальный акт. Как бы ни было важно рационально мотивированное вероубеждение, вера не может быть к нему редуцирована; она включает в себя все измерения человеческой природы. Обновление основного богословия могло произойти лишь при учете этого.


