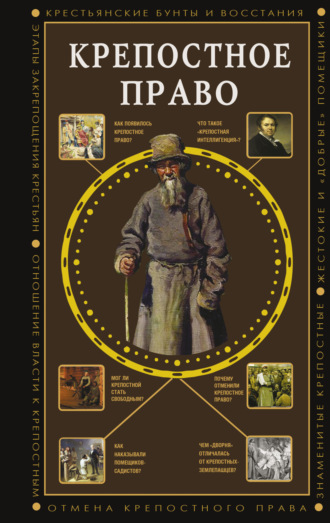
Мария Баганова
Крепостное право
Дворня, или холопы
Крепостному праву, то есть прикреплению крестьян к земле, сопутствовало и такое явление, как холопство. Изначально холоп – это раб, не имевший никаких личных прав. Холопами могли становиться пленные – ведь далеко не всех их селили на пустующих землях. А еще в холопы попадали за долги – холопом мог стать неудачливый половник. Холопы были полной собственностью господина – как корова или коза. Согласно древним русским законам, господин имел право убить холопа, а если другой человек убивал холопа, то он должен был выплатить его господину штраф – за испорченное имущество.
Первоначально крепостные крестьяне и холопы были разными категориями, но постепенно их положение все меньше и меньше различалось. Перепись населения, проведенная в 1718–1724 годах, уже не делала никаких различий между полностью бесправными холопами и крепостными крестьянами, которые тоже теперь воспринимались как «говорящая скотина», «крещеная собственность».
Крепостные крестьяне-землепашцы отличались от рабов наличием собственного хозяйства на земле помещика. Но помещик имел право и это хозяйство отнять!
О! горе нам, холопем, от господ и бедство!
А когда прогневишь их, так отъимут и отцовское наследство.
Что в свете человеку хуже сей напасти?
Что мы сами наживем – и в том нам нет власти, —
говорилось в крестьянской песне XVIII века.
Таких крестьян, которых лишили своих участков земли, иногда даже собственного жилья и заставили прислуживать в господском доме, стали называть дворовыми или холопами, то есть фактически – рабами. Они должны были выполнять всевозможные прихоти барина, взамен получая одежду и питание. Положение их было незавидно: бывшие братья-крестьяне презирали холопов, считая их паразитами.
Позавидовали крестьяне
Все холопскому житью
Холоп подати не платит,
В оброк денег не несет,
Косы в руки не берет, —
пелось в старинной песне.
Да и сами помещики тоже порой называли паразитами дворню, которую сами множили своими приказами.
Без выбору нас бедных ворами называют,
«Напрасно хлеб едим» – всечасно попрекают,
И если украдет господский один грош,
Указом повелят его убить, как вошь.
А барин украдет хоть тысяч десять,
Никто не присудит, что надобно повесить, —
плакались холопы.
Крепостной Фёдор Дмитриевич Бобков, автор пространных дневниковых записок о своей жизни, упоминает, что в «Отечественных записках» прочитал статью, которую он приписывает графу Толстому. Автор ее писал: «Лакейство и все дворовые начали огрызаться. Это уже становится невыносимым. Хотя бы поскорее освободили нас от этих тунеядцев»[4].
По этому поводу Бобков замечает: «Меня эта статья очень оскорбила, и я хотел было написать ответ. У меня роились мысли и возникали вопросы. Кто же другой, как не сами помещики, создали этот класс людей и приучили их к тунеядству? Кто заставлял их дармоедничать, ничего не делать и спать в широких передних господских хором? Разве кто-либо из дворовых мог жить так, как хотел? Живут так, как велят. Отрывают внезапно от земли и делают дворовым, обучая столярному, башмачному или музыкальному искусству, не спрашивая, чему он желает обучаться. Из повара делают кучера, из лакея – писаря или пастуха. Каждый, не любя свои занятия, жил изо дня в день, не заботясь о будущем. Да и думать о будущем нельзя, потому что во всякую минуту можно попасть в солдаты или быть сосланным в Сибирь».
А между тем житье дворового или холопа было нерадостным, наказывали их куда чаще, нежели крестьян в деревне: «Не довернешься – бьют, и перевернешься – бьют», – говаривали они о барском к ним отношении. Именно дворовые должны были ежедневно выдерживать всевозможные помещичьи придирки.
Богатые помещики считали за правило держать обильную дворню. Статистик и экономист, видный русский государственный деятель Андрей Парфёнович Заблоцкий-Десятовский писал: «Нам случалось толковать со многими об излишестве домашней прислуги: “Неужели нашего брата надо заставить в самом деле жить, как немца, с одним слугою”, – говорит деревенский дворянин. Вообще у нас, даже и у образованных людей, понятие о какой-то роскоши, выражающейся в огромности прислуги (роскоши, сопряженной нередко с лохмотьями), соединяется с понятием о достоинстве русского дворянина».
Известный путешественник и этнограф Семёнов-Тян-Шанский вспоминал о своем деде, которого он сам считал заботливым помещиком времен Екатерины Великой: «…численность нашей многочисленной дворни превосходила у нас впоследствии 60 душ обоего пола. Между ними были обученные отчасти в Москве, отчасти у соседей специалисты по разным частям: повара, столяры, портные, сапожники, башмачники, ткачи, слесаря, кузнецы, кучера, форейторы, скотники, ученые овчары, садовники и огородники».
Тян-Шанский пишет о том, как бедно и скудно жили крестьяне даже в процветающем поместье, а затем описывает быт дворни: «Еще хуже были помещены не имевшие уже никакой собственности дворовые люди, хотя прокормление их (в виде «месячины») было всегда хорошо обеспечено. Состоявшие в личных услугах ночевали в довольно просторных передних и девичьих, но конечно все спали на полу и без всяких кроватей, люди же, не состоявшие в личной прислуге, а также семьи дворовых помещались зимою в общей людской избе, а летом в своих клетях: это были хижинки, наскоро построенные из плетня, смазанного глиною, и кое-как покрытые соломою, без печей и даже окон, служившие собственно для хранения принадлежавшего дворовым домашнего скарба, которым они очень дорожили, так как ни земли, ни недвижимого имущества не имели. Были при клетях иногда и маленькие дворики, в которых дворовым дозволялось держать кур, мелкий скот, а в исключительных случаях и корову. В нашей владельческой усадьбе такие клети составляли маленький городок около обширной людской избы».
Ближе к середине XIX века многие дворяне стремились переводить своих крестьян в дворовые. Это происходило потому, что ползли слухи о готовящемся освобождении, а дворовых не нужно было наделять землей.
О содержании дворовых заботились очень мало. Так, в Нижегородской губернии дворовые княгини Мансуровой разбежались, «будучи не в силах переносить голод от мало выдаваемой госпожой пищи».
В Харьковской губернии у помещицы Свирской ситуация была не лучше. Пища варилась раз в неделю, причем качество ее оставляло желать лучшего: борщ без соли (это было распространенным явлением), на второе – гнилая тыква или ягоды бузины, червивое мясо выдавали лишь раз в неделю. Даже было начато следствие, и врач признал пищу дворовых негодной.
В Рязанской губернии помещик Логвенов вообще не выдавал пищи дворовым. В той же губернии помещик Татаринов тоже не кормил своих дворовых, зато бил их смертным боем.
Впрочем, многие из помещиков чувствовали тягость дворовых. Вот что один из них говорил по этому случаю: «Неумеренное число дворовых людей есть совершенная пагуба для помещиков». Бытописатель Николай Фёдорович Дубровин в книге «Русская жизнь в начале XIX века» описывал быт помещичьих усадеб. Он сообщал в частности: «Толпа дворовых людей наполняла переднюю: одни лежали на прилавке, другие, сидя или стоя, шумели, смеялись и зевали от нечего делать. В одном углу на столе кроились платья, в другом – чинились господские сапоги; спертый и удушливый воздух царствовал в этой комнате. Рядом с залой бывала обыкновенно девичья, где сидело несколько десятков девушек, кто за пяльцами, кто за шитьем белья, кто за вязанием чулок. Громадное число прислуги содержалось даже и бедными помещиками, не говоря уже о богатых.
У князя Долгорукова почти четвертая часть всего числа душ его имения составляла его дворню.
При генерале Измайлове находились 271 мужчина и 231 женщина, а с малолетними, стариками и старухами дворня его доходила до 800 человек. 12 девушек состояло при незаконнорожденных детях Измайлова.
У графа Каменского было 400 человек дворовых, причем в передней сидело 17 лакеев, из которых каждый имел определенные обязанности и не смел исполнять других. Один подавал трубку, другой – стакан воды, докладывал о приезде гостей и проч. В свободное время лакеи вязали чулки и невода. Дворня графа Каменского жила на военном положении, содержалась на общем плохом столе, собиралась на обед и расходилась по барабану; никто не смел есть сидя, a непременно стоя, чтобы не слишком наедаться. Прислуга эта одевалась в ливрейные фраки с белыми, красными и голубыми воротниками, обозначавшими разряд и степень должности, и по мере заслуг переводилась из одного цвета в другой, о чем объявлялось в ежедневном вечернем графском приказе по дому…
У помещика Юшкова в одной Москве находилось постоянно до 200 человек дворни».
В доме Гончарова, кроме множества прислуги, был оркестр музыкантов от 30–40 человек и особый охотничий оркестр роговой музыки, введенной в моду князем Потемкиным. Роговой оркестр примечателен тем, что каждый рог может издавать звук только одной тональности. Музыканты должны действовать очень выверенно и синхронно, чтобы в итоге получилось звучание наподобие органного. Француз Поль Дюкре, бывший в то время в России и оставивший нам «Записки», по этому поводу замечал: «Этот род музыки может исполняться только рабами, потому что только рабов можно приучить издавать всего один звук»[5].
Елатомский помещик Кашкаров имел дворовых более 40 человек мужчин и столько же женщин; в передней его дома сидело до 20 человек лакеев.
Тот же Дубровин передает такой разговор двух титулованных дам: «Однажды за столом великая княгиня Екатерина Павловна жаловалась графине Браницкой, что большое число прислуги и лошадей вызывает большие расходы.
– А сколько у вашего высочества дворовых людей и лошадей? – спросила Браницкая.
– Людей до ста человек, а лошадей до 80, – отвечала великая княгиня.
– Как же вам иметь меньше, когда я имею дворовых людей до 300 и лошадей столько же.
– На что вам такая толпа?
– Потому что я графиня и знатная помещица. Мне они в год не много раз понадобятся; но когда нужно – не занимать же у соседей.
Так рассуждали наши предки и, при тогдашних условиях жизни, считали себя правыми».
Нравственность дворовых порой оставляла желать лучшего, но не их была в том вина. Очень часто помещики запрещали для них браки, чем провоцировали внебрачные связи. Дворовые девушки зачастую становились жертвами сладострастия своих господ.
Труд дворовых – причем порой весьма квалифицированный – ценился недорого. Так, у помещика Колобова Рязанской губернии выходные платья его дочерей обшивались блондами – то есть шелковыми кружевами – домашнего изготовления. Крепостные мастерицы, годами не разгибая спины трудившиеся над плетением кружев, не получали за свой труд ни гроша. Они работали за еду.
Некий «сельский священник»[6] опубликовал в журнале «Русская старина» (27-й том) свои записки, где описывал таких мастериц: «В девичьей девок пятнадцать поурочно плели кружева и вышивали. Эти тоже сидели и день, и ночь до проседней с подбитыми глазами и синяками от щипков по всему телу».
У помещицы Неклюдовой в Орловской губернии были швеи, которых она заставляла вышивать в пяльцах, а чтобы девки не дремали вечером и чтобы «кровь не приливала им к голове», лепила им шпанские мушки к шее, а чтобы не бегали, косами привязывала к стульям.
Жестокая эксплуатация самым пагубным образом сказывалась на здоровье несчастных крестьянок. Писатель Сергей Николаевич Терпигорьев, он же Сергей Аттава, в книге «Потревоженные тени» описал такую сцену: «На террасу стали выносить бесчисленные горничные бесчисленное количество удивительного вышитого белья. Бабушка со скромным, но исполненным гордости видом, происшедшим от сознания своего недосягаемого превосходства над всеми хозяйками-помещицами, давала объяснения.
– Вот этот, мой друг, чепчик, – говорила она матушке, – вышивали две девки ровно полгода… ты посмотри…
– Удивительно… удивительно… – повторяла матушка.
– А вот эту рубашку подвенечную – ты посмотри – две девки вышивали год и три месяца.
– Удивительно.
Поленька приятно улыбалась; жених, видевший, конечно, уже это приданое, и, может быть, не раз, показывал вид, что тоже изумлен, поражен. А может, он и в самом деле был в восторге от этого…
Осмотр продолжался долго… Было пересмотрено огромное количество белья, и всё вышитого, расшитого. Наконец бабушка, обращаясь к Маланьюшке, надзирательнице за вышивальщицами, сказала:
– Ну, теперь, как уложишь это всё опять на свое место, тогда принеси… понимаешь?
Маланьюшка, женщина степенного вида, с необыкновенной, таинственной важностью шепотком отвечала ей:
– Понимаю-с… слушаю-с…
– А это что такое, тетенька, вы велели принести? – очень хорошо зная что, но как бы не догадываясь, спросила матушка.
– Ты сейчас, мой милый друг, увидишь, – отвечала бабушка.
Но все знали, что это такое, потому что и матушка, и Поленька, и жених, и даже сама бабушка поглядели друг на друга, приятно и довольно улыбаясь.
В дверях из гостиной на террасу показались сперва сама Маланьюшка-надзирательница, высоко поднимая и держа на уровне с головой что-то белое в руках, и этому белому, широкому и длинному не было еще видно конца, а там были уж видны из дверей головы горничных, с полуиспуганным выражением на лицах поддерживавших это же белое и дальше. Все встали, и послышались те короткие, отрывочные, невольные одобрения, как в театре: «браво, браво, браво», когда зрители не могут удержаться от восторга, но боятся высказать или выразить его громко, чтобы не прервать вызвавшего их восторг действия…
– Вот… – проговорила бабушка.
Это нечто было удивительное! Это был пеньюар, весь вышитый гладью: дырочки, фестончики, городки, кружочки, цветочки – живого места, что называется, на нем не было – всё вышито!..
Эффект был произведен чрезвычайный. Когда наконец удивления, восхищения и восторги всех уже были выражены и бабушка приняла от всех дань одобрения, подобающую ей, матушка наконец спросила ее:
– Ну, а сколько же, тетенька, времени вышивали его?
– Два года, мой друг… Двенадцать девок два года вышивали его… Три из них ослепли…
Все выразили сожаление по этому случаю. А бабушка, вздохнув, добавила:
– И самая моя любимая, лучшая – Дашка… Такой у меня уж не будет другой, – с грустью закончила она.
– Лушка, сударыня, тоже хорошо будет вышивать, – заметила от себя ей, как бы в утешение, надзирательница.
Бабушка только с грустью улыбнулась.
– Что та безответная-то только была… – опять сказала надзирательница и вдруг остановилась.
Горничные, державшие пеньюар, стояли, и точно это до них нисколько, ни малейше не касалось… Точно эти слепые были не из их же рядов, не из них же набраны…
А бабушка, под впечатлением грустной утраты своей, продолжала:
– Я сказала ей еще тогда: «Ну, Дашка, говорю, кончишь этот пеньюар – сама себе выбирай из всей дворни жениха: какого выберешь, за того и выдам тебя…» И я знала даже, кого бы она выбрала…
– И где же она, там теперь? Во флигеле, с другими? – спросила, я услыхал, матушка.
– Там-с, сударыня, – отвечала надзирательница, – с прочими слепыми… ей только всё отдельно приказано поставить от других: и кровать, и сундук, и всё…»
Виды крестьянских повинностей
Крепостные крестьяне были обязаны выполнять разные виды повинностей как в пользу барина, так и в пользу государства.
Самой распространенной повинностью крестьян по отношению к помещику была барщина или, на юге России и в Малороссии, – панщина, то есть даровой, принудительный труд зависимого крестьянина на барском поле. Причем работать ему приходилось на своей лошади и со своим инвентарем.
Андрей Парфёнович Заблоцкий-Десятовский писал: «Крестьянам обыкновенно предоставляются отдаленнейшие поля. Он туда отправляется чуть свет. Вдруг скачет от барина ездок и требует на барщину. Крестьянин бросает свою работу, едет на барщину, а на его поле хоть трава не расти».
«Я на панщину иду – торбу хлеба несу, а с панщины иду – спотыкаюся, дробненькими слезами умываюся», – говорили в народе о тяготах подневольного труда. «Находился я с ралом, намахался цепом и пришел с панщины перед самым рассветом», – пели крестьяне. И так еще пели: «Ой, в недилю, рано-пораненько уси звоны звонят, то атаман с десятником на панщину гонят». Недиля – это воскресенье, день, когда ничего не делают, но злой помещик в этот праздничный день гонит крестьян на барщину: «Нечего вам в церковь ходить, берите цепы да лопаты – идите пшеницу молотить».
О барском обычае в воскресенье отправлять крестьян на барщину писал и Заблоцкий-Десятовский: «В некоторых местах Тульской губернии, например, в Новосильском уезде, существует обычай: крестьянин работает три дня себе, три дня помещику; но в воскресенье после обедни есть бенефис помещика; ему крестьяне работают поголовно. Один из помещиков, вступя во владение своим имением, уничтожил этот обычай. Многие из соседей восстали на него: «вы делаете», говорили они, «вред и себе, и нам, – балуете мужиков».
Еще более показательны следующие строки народной песни: «Продадим всю пшениченьку за тысячу грошей, да справим нашему пану два кафтана хороших», – здесь представлено реальное соотношение цен на сельскохозяйственную продукцию и на предметы роскоши. Крестьянам приходилось в поте лица собирать и обмолачивать пшеницу, дабы помещик мог щеголять на балах в новых кафтанах. Недаром поэт XVIII века Антиох Кантемир писал о дворянском транжирстве: «Деревню взденешь на себя ты целу».
В другой песне крестьяне жалуются, что некому идти на барщину: батько в степи косит, сын – молотит, дочка – тютюн (то есть табак) сажает, да есть еще малые дети, за которыми надо смотреть. На что управляющий отвечает: а вы своих детей утопите да на барщину идите. И, как будет видно из дальнейшего, подобное отношение вовсе не было преувеличением.

С.В. Малютин. Пахарь. 1890
Согласно обычаю, барщина должна была продолжаться три дня в неделю, но многие помещики не принимали в расчет обычное право, и у них барщина могла достигать шести дней в неделю.
Такую барщину описывает, к примеру, Александр Николаевич Радищев в повести «Путешествие из Петербурга в Москву». Ее герой в праздник видит пашущего крестьянина.
«Крестьянин пашет с великим тщанием. Нива, конечно, не господская. Соху поворачивает с удивительною легкостью.
– Бог в помощь, – сказал я, подошед к пахарю, который, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду.
– Бог в помощь, – повторил я.
– Спасибо, барин, – говорил мне пахарь, отряхая сошник и перенося соху на новую борозду.
– Ты, конечно, раскольник, что пашешь по воскресеньям?
– Нет, барин, я прямым крестом крещусь, – сказал он, показывая мне сложенные три перста. – А бог милостив, с голоду умирать не велит, когда есть силы и семья.
– Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и в самый жар?
– В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину; да под вечером возим вставшее в лесу сено на господский двор, коли погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы да по ягоды. Дай бог, – крестяся, – чтоб под вечер сегодня дождик пошел. Барин, коли есть у тебя свои мужички, так они того же у господа молят.
– У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет. Велика ли у тебя семья?
– Три сына и три дочки. Первинькому-то десятый годок.
– Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным?
– Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает; а как ета устанет, возьмусь за другую; дело-то и споро.
– Так ли ты работаешь на господина своего?
– Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь. Да хотя растянись на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит; ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житье нашему брату, как где барин оброк берет с крестьянина, да еще без приказчика. Правда, что иногда и добрые господа берут более трех рублей с души; но все лучше барщины».
На робкое замечание просвещенного городского барина, что, мол, «мучить людей законы запрещают», мужик отвечал:
«– Мучить? Правда; но небось, барин, не захочешь в мою кожу. – Между тем пахарь запряг другую лошадь в соху и, начав новую борозду, со мною простился».
В конце XVIII – начале XIX века почти все помещики стали увеличивать барщину: вместо трех положенных дней землепашцы трудились шесть. Некоторых только в праздники отпускали обрабатывать свою землю.
А еще помещик мог поступить так: отобрать у крестьян всю землю и сделать ее своей. На этой земле крестьяне должны были трудиться как рабы, получая в качестве платы скудный натуральный паек, который назывался «месячиной». Если кто-то пытался протестовать, то помещик имел право сослать «бунтовщика» на каторгу.







