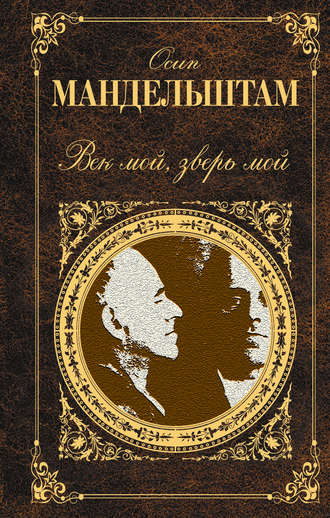
Осип Мандельштам
Век мой, зверь мой (сборник)
Ахматова
Вполоборота – о, печаль! —
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.
Зловещий голос – горький хмель —
Души расковывает недра:
Так – негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.
* * *
О временах простых и грубых
Копыта конские твердят,
И дворники в тяжелых шубах
На деревянных лавках спят.
На стук в железные ворота
Привратник, царственно-ленив,
Встал, и звериная зевота
Напомнила твой образ, скиф,
Когда с дряхлеющей любовью,
Мешая в песнях Рим и снег,
Овидий пел арбу воловью
В походе варварских телег.
* * *
На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг —
И распластался храм Господень,
Как легкий крестовик-паук.
А зодчий не был итальянец,
Но русский в Риме; ну так что ж!
Ты каждый раз, как иностранец,
Сквозь рощу портиков идешь;
И храма маленькое тело
Одушевленнее стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле беспомощно прижат!
* * *
Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера.
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.
Как бы цезурою зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты;
Волы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.
* * *
«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.
Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть —
И в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь…
Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка —
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.
И боги не ведают – что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.
* * *
Природа – тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.
Природа – тот же Рим! И, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить —
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!
* * *
Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной:
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.
Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны;
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари!
* * *
Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?
И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине;
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!
Я получил блаженное наследство —
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.
И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет;
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.
Европа
Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен водой последний материк;
К широкой Азии, к Америке привык,
Слабеет океан, Европу омывая.
Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья;
Немного женственны заливов очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга.
Завоевателей исконная земля,
Европа в рубище Священного союза;
Пята Испании, Италии медуза,
И Польша нежная, где нету короля;
Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, —
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!
Посох
Посох мой, моя свобода —
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?
Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел;
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.
А снега на черных пашнях
Не растают никогда,
И печаль моих домашних
Мне по-прежнему чужда.
Снег растает на утесах —
Солнцем истины палим…
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим!
Ода Бетховену
Бывает сердце так сурово,
Что и любя его не тронь!
И в темной комнате глухого
Бетховена горит огонь.
И я не мог твоей, мучитель,
Чрезмерной радости понять —
Уже бросает исполнитель
Испепеленную тетрадь.
……
……
……
Кто этот дивный пешеход?
Он так стремительно ступает
С зеленой шляпою в руке,
……
……
С кем можно глубже и полнее
Всю чашу нежности испить;
Кто может, ярче пламенея,
Усилье воли освятить;
Кто по-крестьянски, сын фламандца,
Мир пригласил на ритурнель
И до тех пор не кончил танца,
Пока не вышел буйный хмель?
О Дионис, как муж, наивный
И благодарный, как дитя,
Ты перенес свой жребий дивный
То негодуя, то шутя!
С каким глухим негодованьем
Ты собирал с князей оброк
Или с рассеянным вниманьем
На фортепьянный шел урок!
Тебе монашеские кельи —
Всемирной радости приют,
Тебе в пророческом весельи
Огнепоклонники поют;
Огонь пылает в человеке,
Его унять никто не мог.
Тебя назвать не смели греки,
Но чтили, неизвестный бог!
О, величавой жертвы пламя!
Полнеба охватил костер —
И царской скинии над нами
Разодран шелковый шатер.
И в промежутке воспаленном,
Где мы не видим ничего, —
Ты указал в чертоге тронном
На белой славы торжество!
* * *
Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою.
Оно легко и грубо;
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.
Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.
* * *
И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.
В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово – чистое веселье,
Исцеленье от тоски!
Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены,
Но от ереси прекрасной
Мы спасаться не должны.
Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь.
* * *
«Hier stehe ich —
ich kann nicht anders…»
«Здесь я стою – я не могу иначе»:
Не просветлеет темная гора —
И кряжистого Лютера незрячий
Витает дух над куполом Петра.
Аббат
О, спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя —
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля;
Он всё еще проходит мимо,
В тумане полдня, вдоль межи,
Влача остаток власти Рима
Среди колосьев спелой ржи.
Храня молчанье и приличье,
Он должен с нами пить и есть
И прятать в светское обличье
Сияющей тонзуры честь.
Он Цицерона на перине
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились богу в старину.
Я поклонился, он ответил
Кивком учтивым головы
И, говоря со мной, заметил:
«Католиком умрете вы!»
Потом вздохнул: «Как нынче жарко!»
И, разговором утомлен,
Направился к каштанам парка,
В тот замок, где обедал он.
* * *
От вторника и до субботы
Одна пустыня пролегла.
О, длительные перелеты!
Семь тысяч верст – одна стрела.
И ласточки, когда летели
В Египет водяным путем,
Четыре дня они висели,
Не зачерпнув воды крылом.
* * *
О свободе небывалой
Сладко думать у свечи.
– Ты побудь со мной сначала, —
Верность плакала в ночи, —
Только я мою корону
Возлагаю на тебя,
Чтоб свободе, как закону,
Подчинился ты, любя…
– Я свободе, как закону,
Обручен, и потому
Эту легкую корону
Никогда я не сниму.
Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!
* * *
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи —
На головах царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер – всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот, Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
* * *
С веселым ржанием пасутся табуны,
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны
Уносит времени прозрачная стремнина.
Топча по осени дубовые листы,
Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспомню Цезаря прекрасные черты —
Сей профиль женственный с коварною горбинкой!
Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Августа и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.
Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была,
И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся.
* * *
Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре,
С проко́пченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:
– Как эти покрывала мне постылы…
Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит:
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданьем крепнет голос,
И достигает скорбного закала
Негодованьем раскаленный слог…
Я опоздал на празднество Расина…
Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсинной коркой,
И словно из столетней летаргии
Очнувшийся сосед мне говорит:
– Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!
Когда бы грек увидел наши игры…
Из других редакций «Камня»
* * *
Из полутемной залы, вдруг,
Ты выскользнула в легкой шали —
Мы никому не помешали,
Мы не будили спящих слуг…
* * *
Душный сумрак кроет ложе,
Напряженно дышит грудь…
Может, мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь.
* * *
Паденье – неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камни нам бросает с высоты —
И камень отрицает иго праха?
И деревянной поступью монаха
Мощеный двор когда-то мерил ты,
Булыжники и грубые мечты —
В них жажда смерти и тоска размаха…
Так проклят будь, готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге веселых дров не жгут!
Немногие для вечности живут;
Но если ты мгновенным озабочен,
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!
* * *
Поговорим о Риме – дивный град!
Он утвердился купола победой.
Послушаем апостольское credo:
Несется пыль и радуги висят.
На Авентине вечно ждут царя —
Двунадесятых праздников кануны
И строго-канонические луны
Не могут изменить календаря.
На дольный мир бросает пепел бурый
Над Форумом огромная луна,
И голова моя обнажена —
О, холод католической тонзуры!
* * *
Есть ценностей незыблемая ска́ла
Над скучными ошибками веков.
Неправильно наложена опала
На автора возвышенных стихов.
И вслед за тем, как жалкий Сумароков
Пролепетал заученную роль,
Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль.
Что делать вам в театре полуслова
И полумаск, герои и цари?
И для меня явленье Озерова —
Последний луч трагической зари.
* * *
Ни триумфа, ни войны!
О железные, доколе
Безопасный Капитолий
Мы хранить осуждены?
Или, римские перуны —
Гнев народа – обманув,
Отдыхает острый клюв
Той ораторской трибуны;
Или возит кирпичи
Солнца дряхлая повозка
И в руках у недоноска
Рима ржавые ключи?
Encyclica
Есть обитаемая духом
Свобода – избранных удел.
Орлиным зреньем, дивным слухом
Священник римский уцелел.
И голубь не боится грома,
Которым церковь говорит;
В апостольском созвучьи: Roma!
Он только сердце веселит.
Я повторяю это имя
Под вечным куполом небес,
Хоть говоривший мне о Риме
В священном сумраке исчез!
* * *
Обиженно уходят на холмы,
Как Римом недовольные плебеи,
Старухи-овцы – черные халдеи,
Исчадье ночи в капюшонах тьмы.
Их тысячи – передвигают все,
Как жердочки, мохнатые колени,
Трясутся и бегут в курчавой пене,
Как жеребья в огромном колесе.
Им нужен царь и черный Авентин,
Овечий Рим с его семью холмами,
Собачий лай, костер под небесами
И горький дым жилища, и овин.
На них кустарник двинулся стеной
И побежали воинов палатки,
Они идут в священном беспорядке.
Висит руно тяжелою волной.
* * *
– Я потеряла нежную камею,
Не знаю где, на берегу Невы.
Я римлянку прелестную жалею, —
Чуть не в слезах мне говорили вы.
Но для чего, прекрасная грузинка,
Тревожить прах божественных гробниц?
Еще одна пушистая снежинка
Растаяла на веере ресниц.
И кроткую вы наклонили шею.
Камеи нет – нет римлянки, увы!
Я Тинотину смуглую жалею —
Девичий Рим на берегу Невы.
Tristia
* * *
– Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора!
– Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда
……
……
И для матери влюбленной
Солнце черное взойдет.
– О, если б ненависть в груди моей кипела —
Но, видите, само признанье с уст слетело.
– Черным пламенем Федра горит
Среди белого дня.
Погребальный факел чадит
Среди белого дня.
Бойся матери ты, Ипполит;
Федра-ночь тебя сторожит
Среди белого дня.
– Любовью черною я солнце запятнала!
Смерть охладит мой пыл из чистого фиала.
– Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь.
Уязвленная Тезеем,
На него напала ночь.
Мы же, песнью похоронной
Провожая мертвых в дом,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уймем.
Зверинец
Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран – эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом, опять,
Поют косматые свирели.
Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы, —
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
Из петушиного хохла.
А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!
Петух и лев, широкохмурый
Орел и ласковый медведь —
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры.
А я пою вино времен —
Источник речи италийской,
И, в колыбели праарийской,
Славянский и германский лён!
Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи, —
Орел топорщится и злится:
Что, если для твоей пращи
Холодный камень не годится?
В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей —
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.
* * *
На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.
А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.
Не три свечи горели, а три встречи —
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече —
И никогда он Рима не любил.
Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.
Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело —
И рыжую солому подожгли.
Соломинка
I
Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью – что может быть печальней —
На веки чуткие спустился потолок,
Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.
В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их – такая тишина, —
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.
Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.
Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не Соломинка – Лигейя, умиранье, —
Я научился вам, блаженные слова.
II
Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.
Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не Соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.
В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.
А та – Соломинка, быть может – Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь.
* * *
Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд.
* * *
В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, —
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.
* * *
Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы,
– Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы
……
……
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.
От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелося на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юроди́вой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться – значит, быть беде.
Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой,
Я знаю: он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
Целую кисть, где от браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды пламенное лето
Творит такие чудеса.
Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.
* * *
Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло!
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.
Солнце желтое страшнее —
Баю-баюшки-баю —
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.
Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.
И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян.
* * *
Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
– Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела.
Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки, – идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни:
Далеко в шалаше голоса – не поймешь, не ответишь.
После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы, на окнах опущены темные шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.
Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке,
В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.
Ну а в комнате белой, – как прялка, стоит тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена —
Не Елена – другая – как долго она вышивала?
Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
* * *
Еще далёко асфоделей
Прозрачно-серая весна,
Пока еще на самом деле
Шуршит песок, кипит волна.
Но здесь душа моя вступает,
Как Персефона, в легкий круг;
И в царстве мертвых не бывает
Прелестных, загорелых рук.
Зачем же лодке доверяем
Мы тяжесть урны гробовой
И праздник черных роз свершаем
Над аметистовой водой?
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон!
Как быстро тучи пробегают
Неосвещенною грядой,
И хлопья черных роз летают
Под этой ветряной луной.
И, птица смерти и рыданья,
Влачится траурной каймой
Огромный флаг воспоминанья
За кипарисною кормой.
И раскрывается с шуршаньем
Печальный веер прошлых лет —
Туда, где с темным содроганьем
В песок зарылся амулет;
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон!
* * *
Собирались эллины войною
На прелестный остров Саламин —
Он, отторгнут вражеской рукою,
Виден был из гавани Афин.
А теперь друзья-островитяне
Снаряжают наши корабли —
Не любили раньше англичане
Европейской сладостной земли.
О Европа, новая Эллада,
Охраняй Акрополь и Пирей!
Нам подарков с острова не надо —
Целый лес незваных кораблей.
Декабрист
– Тому свидетельство языческий сенат —
Сии дела не умирают!
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.
Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.
Шумели в первый раз германские дубы.
Европа плакала в тенетах.
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.
Бывало, голубой в стаканах пунш горит.
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.
– Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.
Всё перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Всё перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.
* * *
А. В. Карташеву
Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская сгущалася над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.
Он говорил: «Небес тревожна желтизна.
Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи!»
А старцы думали: не наша в том вина;
Се черно-желтый свет, се радость Иудеи.
Он с нами был, когда, на берегу ручья,
Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.
* * *
Твое чудесное произношенье —
Горячий посвист хищных птиц;
Скажу ль: живое впечатленье
Каких-то шелковых зарниц.
«Что» – голова отяжелела.
«Цо» – это я тебя зову!
И далеко прошелестело:
Я тоже на земле живу.
Пусть говорят: любовь крылата,
Смерть окрыленнее стократ;
Еще душа борьбой объята,
А наши губы к ней летят.
И столько воздуха и шелка
И ветра в шепоте твоем,
И, как слепые, ночью долгой
Мы смесь бессолнечную пьем.
* * *
Что поют часы-кузнечик,
Лихорадка шелестит,
И шуршит сухая печка —
Это красный шелк горит.
Что зубами мыши точат
Жизни тоненькое дно —
Это ласточка и дочка
Отвязала мой челнок.
Что на крыше дождь бормочет —
Это черный шелк горит.
Но черемуха услышит
И на дне морском: прости.
Потому что смерть невинна,
И ничем нельзя помочь,
Что в горячке соловьиной
Сердце теплое еще.
* * *
Когда на площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума,
Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам жестокая зима.
В серебряном ведре нам предлагает стужа
Валгаллы белое вино,
И светлый образ северного мужа
Напоминает нам оно.
Но северные скальды грубы,
Не знают радостей игры,
И северным дружинам любы
Янтарь, пожары и пиры.
Им только снится воздух юга —
Чужого неба волшебство,
И все-таки упрямая подруга
Откажется попробовать его.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38







