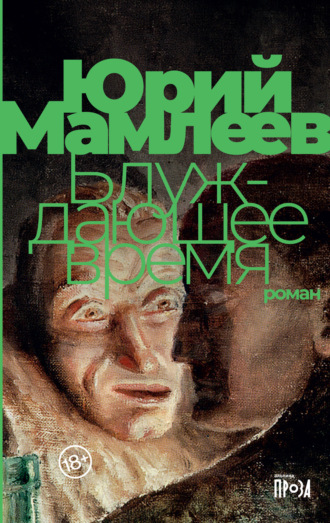
Юрий Мамлеев
Блуждающее время
Легко отделался, одним словом.
Павел даже взбодрился и повеселел.
Буранов взглянул на него:
– Не мешает вам и сходить в православную церковь, есть ведь очень понимающие, тонкие и образованные батюшки… Только не вздумайте идти в секты.
– Ну что вы, Юрий Николаевич, – смутился Павел, – до такого ни я, ни Егор никогда бы не докатились, даже в пьяном виде. Мы всё-таки традиционалисты.
– Ну, ну, – улыбнулся Буранов. – Я пошутил.
Встреча закончилась.
– Это – нормальность, – заявила Марина на улице, – что может быть более естественным, чем реализация бессмертия.
– Тут и возразить нечего, – вздохнула Таня.
– Он сам где-то похож на Рамана Махариши, только очень русский… И видимо, всё осуществил, или почти всё, – добавил Егор.
Но Марина уже оповестила:
– А завтра утром – последний рывок: не к кому-нибудь, а к Орлову. За город. Надо расставить точки над «i», в том числе имея в виду и ваше путешествие, Павел.
После этого они разъехались по домам.
Глава 8
Рано утром Таню разбудил звонок мужа из Сибири, куда он уехал подработать: волновался, как жизнь, как здоровье…
Спать после уже не захотелось, и она прикатила к Марине. У неё, Тани, вообще было какое-то внутреннее ощущение, что Марина всегда готова к встрече с ней.
– Не совершим ли мы безумие, если отвезем наших мальчиков к Орлову? – с ходу спросила она, войдя. – Павел ведь благодаря Буранову только-только пришёл в себя…
– Ничего, пусть теперь придёт в себя с другой стороны, – усмехнувшись, заметила Марина. – Ему сейчас полезны метафизические встряски, авось забудет о своей встрече почти что с самим собой или с собственным зародышем…
– Не надо так, Мариночка, – уютно сказала Таня, усаживаясь на диван. – Не пугай демонов. И согласись, как велик мой Учитель.
– Не он велик, а высшее Я. Между ними нет разницы, имею смелость так утверждать. Но я-то сама, я-то хороша…
– А в чём дело, Танюша? – спросила Марина, разливая кофе и указывая на тарелку с плюшками.
– А в том, что сама-то я плохая адвайта-ведантистка. Да, я переживала это состояние, это было мне дано, с юности…
– Ну ещё бы, как же без высшего Я-то жить, – прихлёбывая кофе, жалостливо добавила Марина…
– Ох уж ты – пальчиком тебе надо погрозить, вот что… Разве можно шутить над Божественным, а, Марина?.. Что за век сейчас, беспредел даже в юморе…
– Ничего, ничего… Бог дышит где хочет… И юмор его не покоробит, – засмеялась Марина.
– Ладно, хватит. Так вот, я всегда теряла это состояние, не могла его долго удержать…
– Ну, знаешь, если б ты могла это постоянно удерживать, в вашей Индии, в Индии духа, в твою честь строили бы храмы, как Шанкаре… Многого ты хочешь.
– Ой, Марина, ты замучила меня своей иронией… Я не Шанкара… И не об этом я говорю…
– А о чём же?
– А о том, что помимо этих прорывов я подло люблю своё «эго», временное Я, воплощение, своё тело в конце концов, ведь в нём тоже присутствует отражённая энергия высшего Я…
– Да знаю, знаю я тебя… Ты лучше своему мужу открой душу… Кому ты всё это говоришь?.. Слишком, слишком ты нежной родилась, Танечка. Опасно это, конечно. Но я и люблю тебя поэтому. Потому что ты – моё прошлое.
– Правда, Марина?!. Значит, ты – моё будущее?!
– Ну, не обязательно. Может быть, Бог тебя милует. Пока ты – моё прошлое, и потому единственная настоящая подруга. Ничего, ничего, всё будет хорошо здесь, если Россия продолжится…
Марина посмотрела на время:
– Через час нам идти. Они будут ждать нас на вокзале.
– Идти к Орлову? Знаешь, Марина, надежда у меня только на то, что он просто не заметит мальчиков.
…О том упомянутом Орлове Григории Дмитриевиче по тайне говорили разное и в разных кругах.
«Орлов наводит на меня непостижимый ужас», – сказал как-то Марине её приятель, претендующий на духовидение.
«За всю свою жизнь не видел более доброго человека», – утверждал родной брат первого, тоже духовидец.
Иные высказывания были совершенно нелепы: «Я умру, если ещё раз его увижу», – высказался молодой, подающий надежды поэт.
Вообще говоря, никто не мог понять, кто он, хотя в его духовном влиянии на тех, кто с ним хоть чуть-чуть общался, не было сомнений. Но никто не мог осознать, в чём оно состояло. Оно было тотально ниоткуда, вне всякой школы и традиции, захватывающее, жуткое, и было непостижимо, из какого источника оно исходит. Некоторые быстро теряли веру в то, что Орлов – человек.
Относительно Буранова, каким бы ошеломляюще высоким не был бы его дух, было, по крайней мере, ясно, откуда всё это идёт, из каких глубин и тысячелетий. Здесь же не было и тени каких-либо аналогий…
Саму Таню поразил до какого-то огня внутри её сознания один случай. Марина привела её к Орлову, за город. На его участке была потаённая деревенская банька с низеньким потолком, приспособленная для сугубых разговоров или молчания. Втроём они сидели там у маленького окошечка вечером со свечкой. И в конце странной беседы Орлов сказал:
– Запоминайте, есть такой уровень, по сравнению с которым всё, что когда-то было известно человечеству из сферы метафизики, религий, философии высшей мудрости, включая самые глубинные мистические озарения, – всё это в лучшем случае невинный детский лепет, первые шаги обучения в детском саду, ибо более не вместят… Но об этом уровне мы пока помолчим.
Тане после этого стало жутко, ибо в её воображении пронеслось нечто настолько непредставимое, от чего мир и душа, ум человеческий превратятся в безотрадную куколку…
Когда она по нервозности пересказала эту речь одному молодому человеку, из кругов Глубоковского, тот, покраснев, процедил: «Убить его надо… Убить…»
Но Таня заметила, что Марине нравились такие глубины. Да и Орлов её выделял своей жутью. Таня сама порой ужасалась своей подруге, но и тянулась к ней.
В действительности Марина, возможно, была единственным человеком, в душе которого жила какая-то тайная близость к Орлову. Большинство же людей он чаще всего непроизвольно вводил в состояние космического ступора и ошаления.
Неудивительно, что после «беседы» в баньке Таня, уединившись с Мариной в её квартире, истерически потребовала:
– Марина, ты, ты – моя подруга, я – твоё прошлое… скажи же, скажи своему прошлому – кто он? Кто он? Ну скажи до глубин, что ты думаешь?
И Марина ответила:
– Я думаю, что, во-первых, его человеческий вид – только оболочка. Это очевидно. Но он и не существо. Он – некий мистический туннель, по которому проходит абсолютно запредельное. Это не человек, не монстр, не демон, конечно, оставим эти глупости для профанов… не ангел, не аватар, а некая глыба запредельного, то, что ещё никогда не входило в мир. Никто не знает, кто его, извини, родители, я даже думаю, что он вошёл сюда каким-то иным способом. Просто появился, и всё. Он – манифестация того, что не может быть. Люди, которые достаточно общаются с ним, сами трансформируются…
…Вот к такому-то «человеку» и собрались они сейчас. На вокзале их ждал один Павел. Егор не приехал.
Электричка несла их вглубь России. Проходили невыразимые по своей глубинной сути поля и леса, бесконечность входила в сердце, маленькие домики поражали своим уютом и заброшенностью, от пространства веяло тихим и молчаливым торжеством непостижимого. Таня не могла долго смотреть на это: на глаза наворачивались слёзы… Марина знала об этом и пожимала её руку так, как будто Таня уже не была её прошлым…
– Я бы хотела, чтобы моя душа хотя бы на минуту стала этим пространством, – прошептала Таня. – Можно сойти с ума от такого непонятного, мистического счастья, видя это.
Марина кивнула головой и ответила:
– Но Россия в целом в состоянии дать гораздо больше, чем человек может вместить. И любовь к ней, наша любовь, может привести к взрыву… духовному взрыву…
Павел молчал: он ещё далеко не совсем вышел из своего состояния, хотя после посещения Буранова ему стало легче…
Глава 9
Первое, что почувствовал Павел, когда они вошли в садик перед скромным одноэтажным домиком Орлова, была ясно выраженная определённость: на этот раз он попал не в прошлое, а на тот свет.
Перед домиком, под размашистым деревом, расположился стол, за которым сидели четверо человек. Но одно место – самое центральное – занимало большое кресло, совершенно пустое. На нём никто не сидел, но все взоры были прикованы именно к нему. Женщина в чёрном платке, вида абсолютно интеллигентного, но в то же время простого, что-то бормотала, обращаясь к жуткому месту. Рядом сидел лохматый полуголый человек, фантастического вида, он не то подпевал её разговору, не то просто подвывал. С другой стороны сидела совершенно уже полузагробная старушка, но очень живая: она что-то быстро записывала, прислушиваясь к разговору с пустым креслом. Четвёртый, уже пожилой мужичок, явно и странно прыгал вокруг стола.
На вошедших они сначала не обратили никакого внимания.
Павел прислушался:
– Спиридон у нас не летун, Григорий Дмитриевич, не летун, – почти кричала в пустое кресло женщина в платке. – Он ещё летать не может. Он бегает. Бегает не от мира сего, а от себя самого. Потому что Спиридон у нас – мудрый.
Лохматый около неё дико завыл при слове «мудрый». Сам Спиридон – он оказался тем, который прыгал, – не прислушался к этому слову: он неистово прыгал и молчал.
Записывающая толстая старушка блаженно улыбалась в ответ.
К ней и обратилась Марина:
– Григорий Дмитриевич где?
– Как где? – пролепетала толстая старушка. – Вот он, – и она указала на пустое место. – А мы вокруг него, как дети.
– Но там пусто, – смиренно сказала Марина.
– Конечно, пусто, – ответила старушка. – Что у нас, вы думаете, глаз нет, мы не видим, что ли? Но с самим Григорием Дмитриевичем, когда он в теле, мы и не осмеливаемся говорить. Мы молчим при нём обыкновенно.
– И что? – спросила Таня.
– И что? А когда он пустой, без тела, мы с ним и беседуем. Сам Григорий Дмитриевич вышел, скоро придёт, а мы пока с его пустотой разговариваем.
– Ах вы, буддисты мои дорогие, – усмехнулась Марина. – Давайте знакомиться. Нам тоже охота с пустотой пообщаться.
– Улита Петровна, – скромно заметила старушка.
Тот, кто выл, звался Колей. Марина вспомнила свой подвал – но Коля выл по-другому. Разговорчивая женщина оказалась Анфисой.
А вдали уже появился он, Гриша Орлов. Был он довольно мощным, рослым, лет как будто бы сорок, но среди такого тела выделялось огромное – по внутреннему ощущению – лицо, и на нём глаза – несоразмерные и совершенно, казалось, не связанные духовно и жизненно ни с этим лицом, ни со Вселенной вообще.
Внешне взгляд был непонятно ошалелый, но внутренний мир глаз был, наоборот, неподвижно-глубок, с мерцающими огоньками. На голове пролысина, и обнажившийся череп был в чём-то бездонно неестественен.
– Одни глаза его с ума сводят, – пробормотала Улита Петровна. – Как же нам с ним при нём разговаривать!
Орлов молча сел в кресло.
«И определить его невозможно. Нету для него метафизических понятий», – подумала Таня.
Спиридон перестал прыгать, и все как-то смирились.
– Мы всё записали, о чём мы с вами разговаривали в ваше отсутствие, Григорий Дмитриевич, – как-то по-деловому, вполне рационально вдруг сказала Анфиса, которая и вела разговор с пустым креслом.
Орлов молча кивнул головой.
Таня не всегда могла выдерживать его взгляд: что-то в ней разрушалось от него. Все же пришедшие поздоровались с ним.
– Помогите нам, Григорий Митрич! – провыл Коля.
– Если я тебе помогу – помрёшь, – отдалённо ответил Орлов.
Коля сразу повеселел и забыл подвывать.
– Он вас любит, Григорий Дмитриевич, – умилённо прошипел переставший прыгать Спиридон. – Хоть робеет, но любит.
– Я любить меня никому не запрещаю, – холодно ответил Орлов. – А ты всё балуешься, Спиридон? Летун эдакий?
– Какое, Григорий Дмитриевич, – сам оробел Спиридон. – Ничего у меня пока не выходит.
Он даже пошатнулся, задел стол, отчего качнулся бачок квасу на нём.
Выражение лица Орлова всё время менялось на поверхности: то он было насмешливым, то жутким, то серьёзным, то ошалелым – но все эти выражения не имели никакой связи с его внутренним состоянием. Там были бездонность, глубина и огоньки – если смотреть, конечно, только человеческим, земным взглядом.
– А ты меня любишь, Марина? – вдруг спросил Орлов, резко и безотносительно, даже не глядя в её сторону.
– Кого – «тебя»? Кого? Кто ты? – Марина выговорила всё это быстро и тоже резко.
Спиридон – то ли от страха, то ли от неожиданности – соскочил со стула и упал. Но взгляд снизу был острый, направленный на Марину.
– Хорошо сказала девочка, хорошо, – так же отсутствующе ответил Орлов.
– Мы виделись последний раз… – выпалила Таня.
– Во сне, – поправил её Орлов.
– Григорий Дмитриевич! – внезапно вмешался, покраснев, Павел, который после первого шока (дескать, попал на тот свет) стал приходить в себя. – Всё, что здесь происходит, очень напоминает надругательство над разумом человеческим. Это замечательно, давно пора! Это, своего рода, инициация.
– Ну есть над чем подсмеиваться, – возразил Орлов и даже улыбнулся, но улыбка его была, как на луне. – Разум, ну и что? Это то же самое, что надругаться над мышью. Бог с вами, молодой человек. Гораздо жутче надо смотреть. Вот Марина это знает…
– Мы к вам по делу, Григорий Дмитриевич, – заметила Марина.
– Думаю, что да. – Орлов наклонил голову. Глаза его, большие, ошалело-потусторонние, смотрели в никуда. – Тогда, Спиридон, вставай с земли, собирай своих, завтра продолжим. Страх перед пустотой опять прогонять будем… А мы пойдём в горницу.
Прежние гости послушно исчезли, а новые, Марина с Таней и Павлом, пошли в горницу.
Выл ветер, но очень осторожно, боязливо; облака на тускнеющем небе неслись быстро, образуя какие-то фантастические лица и фигуры на небе, которые тем не менее быстро распадались.
Но, когда вошли в горницу, стало уютней. На столе квас, хлеб, яблоки. Забывая о безумии, гости расселись как бы вокруг Орлова.
– Кваском-то угощайтесь, обидите, – скромно сказал Григорий Дмитриевич.
Марина хихикнула. Налили все с удовольствием. Квас пили словно какое-то небесное пиво, чуть ли не как амброзию, но немного протухшую к концу времён.
– Что вы с ними всё-таки делаете, Григорий Дмитриевич, с этими милыми людьми, которых вы только что видели? – спросила покрасневшая от мыслей Таня.
– Да вреда им никакого, – добродушно ответил Орлов. – Я их просто трансформирую на время. И восприятие, конечно, тоже. Посидят они пред пустым креслом или ещё как – и другими становятся. Но когда домой возвращаются – почти как все становятся. Они у меня тихие, работящие, всё это им идёт на пользу.
– Зачем? – коротко вырвалось у Марины.
– Да отдых это, Марина, отдых. А у них-то, во время этих трансформаций, стены этой пещеры, люди Вселенной её называют, что ли, да?.. расшатываются: то смерть свою высшую увидят, то небывалый мир, то спляшут… Это ли не на пользу – чтоб не протухали и не думали о себе много. Чтоб расшатались чуток, живей стали. И для смерти ихней и для жизни – это хорошо. Они сами лезут ко мне: быть хотят немного иными. А мне что – я могу в этом помочь. Это не вредно даже для кошек. Но они и в обычной смерти и жизни от этого веселей становятся. Такая уж у них всех натура. Один Спиридон иногда отбивается: бегун он. Бегает по всей Рассее, от одной загадки к другой. А загадки на каждом шагу. Милые они детки, это правда, Тань.
– Григорий Дмитриевич, вы вот сказали, что видели меня во сне, – опять раскраснелась Таня.
– Да я пошутил, Танюша, пошутил. Не во сне я тебя видел, а наяву, в действительности, но в далёком мире, таком далёком, в смысле пространств и времён, что и сказать я тебе не решаюсь: испугаешься ещё… А я пугать не люблю, хотя люди меня пугаются, но я от страха этого лечу. Ты и сейчас там, Таня, а по человечьему раскладу и пониманию – только ещё будешь там. Но не скоро, ох, не скоро, Танюша…
– Да… а где же? – нелепо пробормотала Таня.
– А, Танюша, голосок твой задрожал, – хмуро прохрипел Орлов. Глаза его огромные слегка улыбнулись. Он посмотрел отвлечённо на неё. – Вот ты какая здесь. А там ты будешь совсем другая. Другая, дочка, другая. Ты даже и вообразить сейчас не сможешь, какая ты будешь. Воображение рухнет, и не представишь. Вот так, – добродушно закончил он.
Таня смутилась не то от страха, не то от радости.
– Не бойся, не бойсь. Ты же бессмертная, чего тебе бояться. Не утка ведь… Пей квасок-то, пей.
– Что в нас вечно, её Юрий Николаевич учит, – улыбнулась Марина, разряжая ситуацию. – И меня когда-то кто-то учил…
– О, Буранов – это настоящее, – развёл руками Орлов и выпил кваску. – Правильно учит. Как же без вечного. Срам один жить без Абсолюта. В пылинку превратишься, черти, и те засмеют, – чуть даже с жалостливой интонацией, но не без потусторонней иронии проговорил Орлов.
– Мы не раз Буранова спрашивали о вас, Григорий Дмитриевич, – сказала Марина. – Но на этот вопрос он всё время молчит.
– Хорошо молчит, хорошо, – ответил Орлов. – Недаром говорят, что слово – серебро, а молчание – золото. – Человеческие выражения на его лице мелькали и исчезали, как тени.
– А о чём же вы говорили со мной там, то есть бог знает где? – собралась с духом Таня. – Если можно так выразиться…
Орлов остолбенело и серьёзно на неё посмотрел.
– Но это же передать невозможно! Вы что, Таня? Там всё иное. Не мечтайте о том, что вы говорили там. Для вас же лучше будет…
Танечка даже глотнула слюнку:
– Я чувствую, что вы говорите правду, истину. Так вот какая я буду… Непостижимая себе…
– Обычная история, – поддакнул Орлов. – И не пытайтесь проникнуть. Не дай бог… Кстати, могу вас поздравить: вы дали мне там один очень полезный совет… Я им непременно воспользуюсь… Когда меня здесь не будет.
У бедной Тани даже появились слёзы на глазах, но волосы, казалось, чуть-чуть встали дыбом.
– Таня, не переживай из-за непостижимости себя… Не переживай, – быстро проговорила Марина и сжала её нежную ручку.
Павел обалдело молчал, думая. Квас не пил.
– О, я порезался тут, – вдруг сказал Орлов и показал руку, из которой небольшой струйкой текла кровь. – За гвоздь задел. Ничего.
Таня была потрясена этим не меньше, чем намёком о себе, «будущей»: как, у Орлова есть кровь, и она течёт?! Она с диким недоумением посмотрела на руку и потом на лицо Орлова. Марина расхохоталась. Орлов улыбнулся. Кровь перестала течь. Павел по-прежнему цепенел.
– А мы совсем забыли нашего юного друга, – обратился Орлов к своим гостям. – Чую я, вы из-за него ко мне приехали? Что случилось?
Павел взял себя в руки и всё подробно рассказал.
Орлов расхохотался так, что еле удержался на стуле. И наверное, минут пять потом хохотал, не унимаясь.
– Вот угораздило вас, беднягу, в этакую ловушечку, молодой человек, – наконец выговорил он. – Извините, в связи с этим я вспомнил один эпизод из моей одной очень отдалённой жизни… Весьма тайно-забавный… Со значением… Потому и хохотал так долго.
– Мне было не до смеха, – вставил Павел.
Орлов немного поостыл.
– Дети вы, дети, – сказал он, опять отпив кваску.
– Ну ладно, – он махнул рукой в сторону Павла. – Что вы переживаете: вы же остались живы и вернулись. Если б застряли, было бы хуже.
– Я не могу понять! – вдруг закричал Павел. – Как может сохраняться прошлое не в виде проекции, тени, а в живом физическом виде?!! Как это может быть?!! Моя мать умерла, и, значит, в то же время она осталась жива, пусть и в прошлом? Она живая и мёртвая одновременно? Или это не она, а кто-то другой в её теле!! У меня ум раскалывается, я не могу жить так больше!
Павел даже стал топать ногами, сидя.
Орлов отрезал ему чёрного хлебца, намазал маслом, посыпал солью и сказал:
– Съеште. Вкусно. По-деревенски.
Павел ел.
– Удивляюсь я людям, – развёл руками Орлов. – Ну так, слушайте. Здесь и понимать нечего. Это просто реальность, относительная, конечно, как и всё в этом мире полуиллюзий, – но бывает, и всё. Это надо принимать как есть. Вы же пытаетесь объяснить то, что по принципу вне человеческого разума, вне понятий и концепций, вы пытаетесь объяснить то, что объяснить полностью на таком детском уровне невозможно. Отсюда и ощущение краха… Конечно, можно и по этому поводу легко воссоздать какое-нибудь приличное объяснение, но к действительности это будет иметь весьма вялое отношение. То, что вы увидели, – просто есть, и всё. Понимать такое – то же самое, что топором рисовать китайские миниатюры… плюньте вы на свой ум, тоже мне сокровище, это просто маленькое приспособленьице. Забудьте об уме. Есть ведь такое помимо вашего ума… ого-го-го-го! – и Орлов даже как-то дико произнёс это «ого-го-го!», так что Павел испугался.
– Мне и говорить на языке ума тошно, – добавил Орлов. – Но уж ради вас…
– Вспомните, наконец, моих гостей, – продолжал он, – сегодняшних. Увидев меня, пусть в виде пустоты, они пляшут, иногда рвут на себе волосы, прыгают, древние былины поют – никому не известные, кстати, включая и их самих, естественно… Почему они так? Да если бы они это пытались понять или объяснить, я бы их прогнал. Они именно и не пытаются понять, но, увидев мою пустоту, прыгают, вопят, ползают, открывают в себе свои миры… Вам прыгать не надо, но ум свой не тревожьте зря.
Павел вдруг просветлел.
– Он согласен, – добавила Марина.
– А дьявола-то вы… как?! – вдруг выпалил Павел.
– Опять за своё, – удивился Орлов. – Неужели не надоело?.. Да знаю я его, знаю. Ну и что?.. Как его не знать, когда он везде… Князь мира сего… Один даже вот тут, на вашем, Павел, стуле сидел, условно говоря. Быстро сбежал. Они меня боятся. Не выносят, – задумчиво, и даже с огорчением, заключил Орлов. – Власть у них маленькая, Павлуша, как у слонов в джунглях. В своей сфере они сильны, даже очень. Но вне отведённого им региона – они ничто. Нашли кого бояться, никаких подлунных бездн у них нет. Люди и то – выше, интересней бывают по своей скрытой природе. Драчливы они к тому же, с неземными комплексами, и вообще, на мой взгляд, смешные существа. Метафизически, может быть, негодяи, не спорю… Хотя и их понять можно. Но вы меня отвлекаете всякой ерундой… Из-за вас, Павел, в какой-то быт уйдёшь. Вы ещё русалок вспомните…
Марина с каким-то совершенно потусторонним нетерпением перебила его:
– Григорий Дмитриевич, вы вот спросили, люблю ли я вас?! Как это можно понять?
Гриша медленно повернул свою почти бычью по огромности голову к ней и проговорил, вздохнув:
– Ну, наконец-то! Вот это уже серьёзный разговор. Так вот, послушайте, Марина. Если бы вы сказали, что любите, это означало бы, что вы принимаете меня не за то, кто я есть. Это было бы очень печально, потому что ещё означало бы, что я ошибался в вас. К счастью, вы так не ответили… Меня нельзя любить, Марина, потому что любить можно только то, что относится к бытию, к жизни, проще говоря, к тому, что существует. А я, Марина, далеко, далеко ушёл от всего этого, от всего, что есть, хотя как будто я тут… Ты вот, Таня, – Орлов взглянул на Самарову, – себя любишь, я имею в виду, твоё высшее Я, вечное Я, ибо Бытие в нём… Да, да, ты любишь Себя, и ваш Буранов этому учит, и хочешь к Себе прийти… А я, Таня, ушёл от Себя, далеко, далеко… Меня нет, кого же тогда любить?
Орлов встал и, медленно подойдя к Марине, положил ей руку на плечо.
– И ты, Марина, любишь Себя, но совсем по-иному, конечно, совсем по-иному. Например, страшную чёрную точку внутри себя – ведь любишь?.. А я, Марина, от Себя далеко ушёл, а ты всё-таки к Себе идёшь, пусть и к жуткой. Но я, Марина, не у Себя, далеко, далеко, и никаким языком этого не выразишь.
И он отошёл от Марины.
У неё вдруг побежали слёзы – внезапные, живые.
– Я знаю, знаю, – сказала она, – и как же?
– Ко мне нельзя испытывать, – холодно ответил он, – любовь или ненависть и так далее, всё человеческое… Ко мне можно испытывать нечто иное… – по его лицу прошла молния… но чего? Другого сознания, духовного огня, света, тьмы – было непонятно.
Марина вдруг встала.
– К вам можно испытывать тоску. Запредельную тоску.
– Это уже ближе к истине, – усмехнулся Орлов. – Не обо мне тосковать, конечно, а я могу вызывать некую притягивающую, запредельную тоску? Так тебя понимать?
Марина кивнула головой.
– Да. Вы, кстати, Марина, при мне становитесь ещё более дальней. Смотрите не потеряйтесь.
Марина опять села на стул в какой-то растерянности, точно не знала, что с собой делать.
– Вы ушли от своего вечного Я, – тихо сказала она, – от Абсолютной Реальности в какую-то иную бесконечность…
– Что вы, плачете, Марина? – спокойно спросил Орлов. – Вот уж не ожидал от вас. Нельзя же в конце концов так реагировать на то, что лежит за пределом мира людей. Вы это сами отлично знаете… Как велика всё-таки слабость у человеков. Как они слабы… Надо же… И всё потому, что считают себя смертными, – искренне удивился Орлов. – Ну, Таня, понятно, она сверхнежная, но и она, кажется, пока не плачет… а вы-то что?.. Значит, и вы немного… что-то осталось, Марина… да?.. от прошлого, от человеческого?.. Что ж, бывает, бывает…
И он с неуклюжей симпатией, видимо, с трудом заставляя себя проявлять «человеческое», подошёл и слегка похлопал Марину по руке.
Потом медленно сел в своё кресло.
– Значит, всё-таки жизнь, существование? Да?.. Ну вот посмотрите все трое, и вы, Павел, очнитесь, взгляните на эту пустую тарелочку посередине стола… Так… А что вы теперь видите?
Сначала в пространство вошло что-то незнаемое, а далее… все оцепенели от ужаса.
– Правильно. Голову. Пока овечью. Отрезанную. В крови. Браво!.. Ну что, жалеете?!. Глазки у овечки беспомощно прикрыты…
Безмолвие было ответом.
– Можно её поджарить… Видите её?.. А теперь видите?.. Нет! Окровавленная голова исчезла. Так и этот мир. Он есть, и его нет.
– Да-а-а, – наконец медленно протянула Таня, покрытая потом.
– А что? Чувствуете себя неловко? Вот следы крови остались на скатерти… Но это же сущая ерунда, Танечка… В древности, так сказать, квалифицированные младенцы знали, когда это вызывается. Я же не сотворил эту голову из воздуха… Но и ваше сознание в этом участвует. Вы тоже в некотором роде адепты… Кстати, даже когда вы спите – никакого мира для вас нет. Он исчез, пока вы не проснетесь.
Орлов взглянул на Таню.
– Значит, головка больно жалкая была… отрезанная… Это потому, что в вас жалость есть…
– Но вы нас не жалеете, Григорий Дмитриевич! – выпалил Павел.
– Нет, это неправда. Жесткость сейчас стала гораздо более человеческой чертой, чем жалость, но всё это ниже моего восприятия… А я вас, кстати, жалею, хотя мне это не очень свойственно. Но что делать, – добродушно вздохнул Орлов, – с кем поведёшься, от того и наберёшься… Я, например, легко мог бы вам продемонстрировать иную картину… И отрезанную человеческую голову… Взаправдашнюю, но из так называемого прошлого… Ну, к примеру, XVI век, и головка-то из предков, родственников, так сказать, ваших… Называть кого – не буду, не буду… Но главное – головка-то женская, красивая, казнённая, причём по ошибке, невинная, значит, особа была, молоденькая… После отпадения голова ещё шептала что-то… минуты две-три… в корзине… одна. Мы вот и расшифровывали бы её шёпот. Это бывает… Палачи рассказывают, что иной раз целые корзины голов шепчут… Не все плачут, иные ругаются или о первой любви шепчут. Крепитесь, крепитесь, друзья… Показать?
В ответ – замогильная тишина.
– Можно увидеть и нечто гораздо более худшее… Но я вижу, вы и так расстроены. И к тому же, по большому счету, зачем вам этот театр времён, я – не маг, не волшебник, мне самому это противно…
Орлов добродушно поморщился.
– И вас травмировать к тому же не хочу. Моя цель была самая детская, воспитательная: показать вам мир, сущее, так сказать, в его голом виде, чтобы вы хоть немного набрались потом мужества, хотя бы поняли лицом к лицу, что вам мужество необходимо, до тех пор, пока вы не выберетесь из этого круговорота… Может, посмотрим всё-таки головку-то в крови, нежную, невинную, молодую, женскую, что-то шепчущую там, в корзине, скорее всего молитву?.. Нет, нет, и не просите, не надо, хватит с вас овечьей головы… Та хоть не шепчет… Покорная… Но элементарного мужества надо набираться… а, интеллигенция? – Орлов посмотрел на Павла. – Иначе трудно будет: головки женские – это ведь пустяки по сравнению с тем, что может быть…
– Простите меня, Григорий Дмитриевич, – нелепо сказал Павел.
– Ничего, ничего, вы же у нас маленький пока. А вот перед Мариной и даже где-то Таней я извинюсь за свои слова. Я имел в виду только физическое мужество, и оно сейчас необходимо. А духовного мужества у Марины той же слишком даже много, я бы сказал, а это в конечном счёте несравнимо важней и действенней, но иногда опасней… А теперь сеанс закончен. Будет что вспомнить. Может, пивка выпьем?.. У меня есть домашнее. По древнему способу приготовленное, наше родное, российское, одна старушка мне сотворяет такое…
Все как-то молча, но с удовольствием согласились. Быстро накрыли на стол, кровь овечки смыли («в тот мир пролилась, что ли, – подумал Павел), появилось пиво в деревенских кувшинах… Выпили… Понемногу тишина рассеялась.
К Танечке первой вернулся земной разум.
– Скажите, Григорий Митрич, – начала она, отпивая душистое пивко, – суету мира сего вы нам показали убедительно. Наглядно. И его бытие тоже. Но ведь есть вечное нетварное Я внутри нас. И вы тоже от него ушли… Может быть, и это вы нам объясните, в таких же ярких красках, так же впечатляюще? С телом понятно, а что с ним, с этим нетварным светом?
Орлов расхохотался.
– Много хотите, Танечка… Если серьёзно, – его лицо вдруг стало совершенно отрешённым, – то вот здесь наши коммуникации обрываются, телефон не работает… Забудьте… Язык, понятия здесь беспомощны, бездна недоступна, и полна она не звёздами, а непроницаемой тьмой… Это насчёт так называемого «ухода» от вечного Я и Света.
– Но мы ведь, наоборот, именно это Вечное и хотим реализовать. Вершина мировой духовной традиции… – ответила Таня.
На лице Орлова проявилось какое-то малозаметное усилие, словно он вернулся памятью к чему-то безумно отдалённому.
– Конечно, Таня… – усмехнулся он. – Так и надо… Вы стремитесь… Похвально. Без вечного Я вообще не о чем говорить, люди ведь не мыши всё-таки.
Таня согласилась.
– Да и мир этот презирать надо в меру, есть в нём особые, скрытые аспекты, ой-ей-ей! – Орлов расхохотался – Так что давайте выпьем за эти неведомые аспекты…
…Они мчались обратно, в Москву, родной железной тропой, направление было на Ярославский вокзал.
Тьма за окном – там, в пространствах, – была необыкновенно живая, она точно обнимала человека и давала ему рождение, прорыв… В самом вагоне, кроме них, было очень мало народу, в дальнем углу только тихонько пели народную песню. Песня была какой-то сумасшедшей красоты.







