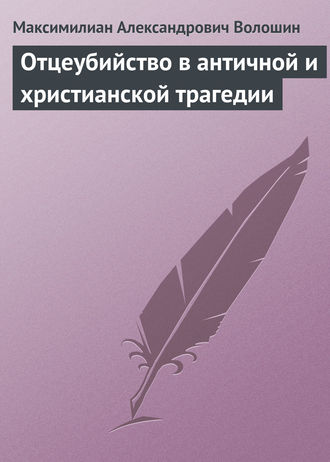
Максимилиан Волошин
Отцеубийство в античной и христианской трагедии
Тот же параллелизм, который существует между Иваном и Смердяковым, можно уловить между Дмитрием и Алешей. Только Алеша воплощает[75] те духовные силы, которые лежат в Дмитрии. В сходстве Ивана со Смердяковым лежит его гибель. В сходстве Дмитрия с Алешей возможность «воскресения из мертвых».
Достоевский намеренно как бы, чего он никогда не делал, подчеркнул этот параллелизм.
В ту самую ночь, когда в монастыре лежит тело почившего «святого» старца Зосимы, духовного отца Алеши, его отец по плоти – грешный старик Феодор Павлович Карамазов, лежит в своем кабинете с проломленным черепом.
В эту же самую ночь Митя мчится на тройке в Мокрое и молится исступленно:
«Господи, прими меня в моем беззаконии, но не суди меня. Пропусти мимо без суда твоего… Не суди, потому что я сам осудил себя, не суди, потому что я люблю тебя, Господи! Мерзок сам, а люблю тебя: во ад пошлешь, и там любить буду, и оттуда буду кричать, что люблю тебя во веки веков».
И Достоевский спешит отметить, что это была та самая ночь и тот самый час, когда Алеша вышел из кельи, где стояло тело старца Зосимы, только что проснувшись от того сна, когда ему[76] было вещее видение о пире в Кане Галилейской:
«Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегала землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние, роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездной… Алеша стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на землю.
Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее всю, но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее во веки веков. „Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои…“ – прозвенело в его душе. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и не стыдился исступления сего. Как будто нити от всех этих бесчисленных миров божьих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, соприкасаясь мирам иным. Простить ему хотелось всех и за все и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся, а „за меня и другие просят“, прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно, как бы осязательно, что что-то твердое и незыблемое, как свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты. „Кто-то посетил мою душу в тот час“, – говорил он потом с твердой верой в слова свои…
Через три дня он вышел из монастыря, что согласовалось и со словом покойного старца его, повелевшего ему „пребывать в миру“».
Я целиком прочитал эту страницу потому, что она является[77] центральной точкой всего романа. Без того света, которым озаряет она мрачные страницы «Братьев Карамазовых», трагедия Карамазовых была бы так же безвыходна, как трагедия Эдипа. В этом экстазе любви к земле, к плоти, ко всему сущему Достоевский раскрывает тот путь, которым карамазовщина может быть преодолена без отцеубийства; тот путь, на котором требование: «оставь отца и мать и иди за Мною», не нарушает, а утверждает заповедь: «чти отца своего и матерь свою».
Как известно, те «Братья Карамазовы», которых мы имеем в настоящее время, по замыслу Достоевского должны были стать только прологом к большому роману, который бы охватывал всю жизнь Алеши. Этого романа Достоевский не написал, потому что умер или, как было сказано [в этом году][78] – умер, потому что не мог бы написать.







