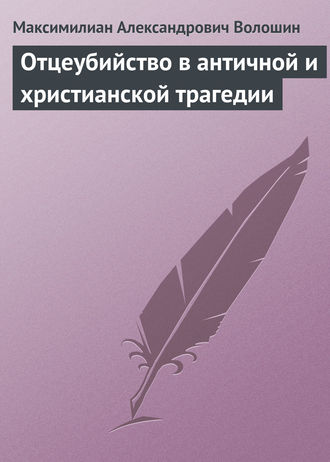
Максимилиан Волошин
Отцеубийство в античной и христианской трагедии
Трагедия Дмитрия и трагедия Ивана начата и закончена в романе. Трагедия Алеши только проецируется из него.
В общем плане романа есть большая последовательность и стройность, гармоничность замысла, редкая для Достоевского.
Трагедия Дмитрия идет нарастая ровно до половины романа, где действие надламывается катастрофой – смертью Феодора Павловича. Достоевский так ведет нарастание гнева и безвыходности положения Дмитрия, что когда он ставит многоточие после тех строк, где Митя подбегает к окну и видит отца, то у читателя остается несомненное чувство, что он не может не убить.
Трагедия Ивана начинается только тогда, когда трагедия Дмитрия окончена. Первая часть шла к убийству, вторая развивается от убийства. Нарастание ужаса в трагедии Ивана именно то же самое, что в «Эдипе-царе»: он обвиняет в отцеубийстве брата и вдруг начинает узнавать, что отцеубийца – он сам. Это постепенно‹е› разоблачение его виновности совершается так же постепенно, неизбежно и страшно, как у Софокла.
Когда Иван говорит Алеше о том, что есть «собственноручный Митенькин документ, математически доказывающий, что он убил Феодора Павловича», Алеша восклицает: «Не он убил отца, такого документа быть не может».
«Иван Феодорович вдруг остановился.
– Кто же убийца по-вашему? – как-то холодно спросил он, и какая-то высокомерная нотка прозвучала в тоне вопроса.
(Вспомним, как высокомерен Эдип с Тирезием и Креоном).
– Ты сам знаешь кто, – тихо и проникновенно проговорил Алеша.
– Кто? Эта басня-то об этом помешанном идиоте? О Смердякове? Алеша вдруг почувствовал, что весь дрожит.
– Ты сам знаешь кто, – бессильно вырвалось у него. Он задыхался. (Алеша проходит через все моменты душевного состояния Тирезия, который отказывается отвечать Эдипу на его вопросы, заклиная не спрашивать ради собственного своего счастия).
– Да кто, кто? – уже почти свирепо вырвалось у Ивана. Вся сдержанность его вдруг исчезла (как она исчезает в этот момент у Эдипа).
– Я знаю только одно, – все так же почти шепотом проговорил Алеша, – убил отца не ты».
Вот оборот, сделанный вполне в духе гения греческой трагедии!
До сих пор Иван поймал себя только на одном: ночью, за день до отъезда в Москву, он вставал, потихоньку выходил на лестницу, прислушиваясь[74] со странным любопытством к тому, что делается в комнатах отца. Ждал убийства, сам себе в том не сознаваясь. Этого «поступка» он стыдился больше всего и считал самым подлым в своей жизни. Но в этом стыд, а не преступление. И вот идут три последовательных разговора со Смердяковым, архитектурно соответствующие рассказу Иокасты об заброшенном в горы ребенке, рассказу вестника о царе Полибе и рассказу пастуха об том, как он спас ребенка Эдипа.
Смердяков, глядя в глаза Ивану, говорит саркастически:
«Не надоест же человеку! С глазу на глаз сидим, с чего бы, кажется, Друг друга-то морочить, комедь играть? Али все еще на меня одного свалить хотите, мне же в глаза? Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему это дело и совершил».
Смердяков всюду сопровождает Ивана, как его двойник, как его хамское подобие. В Смердякове в чистом виде воплощена та подлая, кощунственная, казуистическая карамазовщина, которая в Иване сильнее, чем в Дмитрии. И когда Иван после этого третьего, окончательного разговора выходит от Смердякова и тот вешается у себя в комнате, в это самое время у Ивана происходит разговор с Чертом. Черт Ивана Феодоровича – это мировое преображение Смердякова, истинный дух Смердякова, гений карамазовщины. Черт говорит мысли Ивана, но говорит их тоном, ужимками и оборотами Смердякова. В его лике встает перед Иваном та логика вещества, против которой он боролся путем отцеубийственным, но отцеубийство не уничтожило, а только освободило грозящие ему силы.







