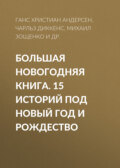Максим Горький
Злодеи
IV
Прошло с неделю.
Однажды ночью друзья, голодные и злые, лежали рядом на нарах ночлежки, и Ванюшка тихо укорял Салакина:
– Всё ты виноват! Кабы не ты, я бы теперь работал где-нибудь…
– Подь к чёрту, – кратко посоветовал приятелю Салакин.
– Не лай! Я правду говорю. Чего теперь делать? С голоду помирать…
– Ступай, женись на купчихе, вот и будешь сыт… Мякиш!
– Ряба форма, шитый нос…
Уже не первый раз они разговаривали так.
Днём, – полуодетые, синие от холода, – они шатались по улицам, но очень редко им удавалось заработать что-нибудь. Они брались колоть дрова, скалывать на дворах грязный лёд и, получив за это по двугривенному, тотчас же проедали деньги. Иногда на базаре какая-нибудь барыня давала Ванюшке свою корзинку и платила ему пятак за то, что он в продолжение часа таскал за ней по базару эту корзину, тяжело нагруженную мясом и овощами. И всегда в таких случаях Ванюшка, голодный до боли в животе, чувствовал, что ненавидит барыню, но, боясь обнаружить как-либо это чувство, притворялся почтительным к ней и равнодушным ко всему, что лежало в её корзине, раздражая его голод.
Порою, тихонько от полиции, Ванюшка выпрашивал милостыню, а Салакин умел украсть кусок мяса, кружок масла, кочан капусты, гирю. Ванюшка в этих случаях дрожал от страха и говорил товарищу:
– Погубишь ты меня! Упекут нас в тюрьму…
– В тюрьме будем и сыты и одеты, – резонно возражал Салакин. – Али я виноват, что украсть легче, чем работу найти?
В этот день они едва собрали шесть копеек на ночлег; Салакин стащил где-то французский хлеб да небольшой пучок моркови, и больше ничего не пришлось им съесть в этот день. Голод жёг внутренности и, не позволяя уснуть, озлоблял.
– Я сколько потратил на тебя? – укоризненно спрашивал Салакин Ванюшку. – У тебя всего-навсего имения было кафтан да топор…
– А шесть гривен? Забыл!
Они ворчали друг на друга, словно две злые собаки, и уже Ванюшка, как будто не нарочно, однажды толкнул Салакина локтем в бок. Но ему не хотелось открыто ссориться с товарищем: за это время он привык к нему и понимал, что без Салакина ему жилось бы ещё хуже.
Одному жить в городе – страшно. А возвращаться в деревню оборванному, полуголому – стыдно и пред матерью и пред девками, пред всеми. Да и Салакин насмехался над ним каждый раз, когда Ванюшка говорил о возвращении в деревню.
– Иди, иди! – говорил он, оскаливая зубы. – Порадуй мать-то: заработал хорошо, оделся барином!
Помимо этого, Ванюшку не пускала в деревню смутная надежда на удачу. То ему казалось, что какой-нибудь богатый человек пожалеет его и возьмёт в работники, то он думал, что Салакин найдёт какой-нибудь выход из этой тягостной, голодной жизни. Надежда на ловкость товарища поддерживалась и самим Салакиным, который часто говорил:
– Ничего! Проживём, ты погоди. Выбьемся!..
Говорил он это с большой верой и смотрел на Ванюшку как-то особенно зорко. Тогда Ванюшке казалось, что товарищ знает средство, как выбиться.
И всё-таки в эту ночь он, лёжа бок о бок с товарищем, думал, что, если бы из потолка над ними вывалился кирпич на голову Салакина, это было бы хорошо. И вспомнил, как недавно, среди ночи, раздался дикий крик, напугавший всех, и вспомнил залитое тёмной кровью лицо человека, расплющенное кирпичом, упавшим из свода ночлежки.
– Велика сумма – твои шесть гривен, – бормотал Салакин, – а вот кабы ты…
– Что я?
– Кабы ты посмелее был…
– Ну?
– Ну и ничего…
Ванюшка подумал и сказал:
– Ничего ты не можешь, – зря только языком болтаешь…
– Я-то?
– Ты.
– Эх! Сказал бы я…
– Ну, что? Ну, осмелел я, скажем… А потом что делать?
– Потом?
– Ну да!
– Я скажу!
– Говори.
– И скажу, только…
– Сказать нечего, – решительно пробормотал Ванюшка.
Салакин беспокойно завозился на нарах. А Ванюшка повернулся спиной к нему и, безнадёжно, с тоской, вздохнув, прошептал:
– О, господи, хоть бы корку какую…
Несколько минут они оба лежали молча. Потом Салакин приподнялся, наклонил голову над Ванюшкой и, почти касаясь губами его уха, едва слышно сказал:
– Иван! Слушай, пойдем со мной!
– Куда? – тоже чуть слышно спросил Ванюшка.
– В Борисово…
– Пошто?
– Дорогой скажу!
– Сейчас говори…
– Ну, пойдём! Я скажу… Пойдем мы и… Матвей Иванова обокрадём, – ей-богу!
– Подь ты к чёрту, – со страхом и досадой сказал Ванюшка.
Но Салакин тяжело навалился на него и начал шептать ему в ухо:
– Ты слушай, – просто ведь! Придём, сделаем что надо, и – назад сюда! Кто на нас подумает? Я там всё знаю, все ходы-выходы, – и где лежат деньги знаю, – и есть серебро: ложки, стаканчики в горке, за стеклом…
Горячее дыхание Салакина грело щёку Ванюшки, и страх его таял. Но всё же он тихо повторил:
– Поди, говорю, прочь, дьявол!
– Нет, ты подожди-ка… Ведь как бы мы зажили, – подумай! Раз – и сыты, обуты, одеты… а?
Ванюшка лежал молча, а Салакин всё вдувал в ухо ему и в мозг горячие, убеждённые слова.
И наконец Ванюшка спросил его:
– А много денег-то?
V
Через два дня, ранним утром, они шли по большой дороге, плечо к плечу друг с другом, и Салакин воодушевлённо говорил товарищу, заглядывая ему в глаза:
– Понимаешь: перво-наперво мы сарай подожжём! И как, значит, загорится, все побегут на пожар, и он тоже – Матвей-то! Он побежит, а мы – к нему! И очистим его, как яичко…
– А поймают? – задумчиво спросил Ванюшка.
– Никак нельзя! – сказал Салакин. – Кому ловить?
И строгим голосом он добавил:
– Пожар тушить надо, а не воров ловить! Понял?
Ванюшка утвердительно кивнул головой.
Это было в начале марта. Мягкий, пухлый снег тяжёлыми хлопьями лениво падал с невидимого неба и быстро залеплял следы людей, шагавших по дороге, между двух рядов старых берёз с обломанными сучьями.
– Эх, кабы удалось! – сказал Ванюшка, тяжело вздыхая.
– Погляди, как удастся! – уверенно обещал Салакин.
– Дай бог! То есть ежели бы удалось, – господи! Никогда бы больше не пошёл на эдакое дело…
Товарищи шли быстро, потому что были очень плохо одеты, – Салакин в свою бабью кофту, украшенную бесчисленным количеством дыр, из которых смотрела грязная вата, на ногах у него хлябали валеные калоши, а на голову он натянул серую от старости шапку. Ванюшка приобрёл себе вместо кафтана коричневый драповый пиджак, но правый рукав пиджака был почему-то чёрный. В лаптях, в картузе с изломанным козырьком, подпоясанный верёвкой, Ванюшка стал похож на пропившегося мастерового, а не на крестьянина.
Накануне того дня, когда они решили идти на дело, Салакин ухитрился стянуть где-то медную кастрюлю и утюг, продал их за восемь гривен торговцу старым железом, и теперь у него в кармане лежал полтинник.
– Ежели бы попался нам по дороге кто-нибудь на лошади, да подвёз бы нас, – сказал Салакин. – А то мы к ночи не поспеем, – сорок вёрст с лишком тут! Можно бы даже по пятаку с рыла дать, кабы подвёз…
Снег валился на головы им, падал на щёки, залепил глаза, лёг на плечи белыми эполетами, приставал к ногам. Вокруг них и над ними безмолвно кипела белая каша, и они ничего не видели впереди себя. Ванюшка шёл, молча понурив голову, как старая, больная лошадь, которую ведут на живодёрню, а живой, словоохотливый Салакин оглядывался вокруг и болтал, не умолкая.
– Сколько прошли! А что впереди – не разберёшь! Экий снег… Оно, положим, снег нам на руку, – следов не будет… Ежели бы он так всё и валил! Только при нём поджигать неловко! Ничего, видно, на свете такого не бывает, которое со всех сторон – и так и эдак – хорошо было бы…
Хлопья снега становились мельче, суше и уже падали на землю не прямо и медленно, а стали кружиться в воздухе тревожно, суетливо и ещё более густо. Вдруг из них выступило тяжёлой тёмной кучей покосившееся набок здание, точно вдавленное в землю тяжёлыми сугробами на его крыше.