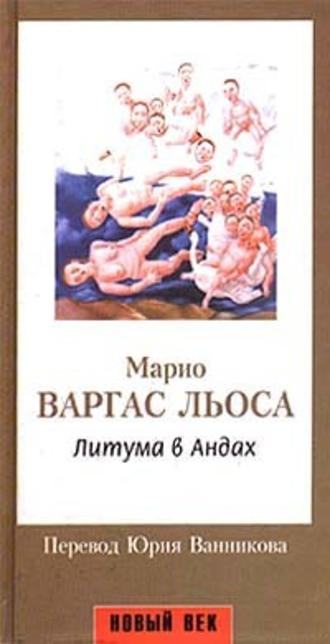
Марио Варгас Льоса
Литума в Андах
Так как в Андамарке больше не было гражданского судьи – он оказался среди тех, кого казнили по списку, – прапорщик распорядился, чтобы Медардо Льянтак сам составил акт обо всем случившемся и чтобы несколько жителей подписали его в качестве свидетелей. Потом отнесли трупы на кладбище, вырыли могилы и похоронили. И только тогда родственники убитых наконец ощутили боль и ярость. Плакали вдовы, дети, братья и сестры, племянники, приемные дети, рыдали, обнимались, потрясали кулаками, требовали возмездия.
Сразу после того как дезинфицировали площадь, вылив на нее несколько ведер креозота, прапорщик стал собирать свидетельские показания. Он засел в административном центре и вызывал туда семью за семьей. Он расставил посты на всех выходах из Андамарки и приказал никого не выпускать без его разрешения. Однако товарищ Хуан и товарищ Тереса уже успели ускользнуть, они скрылись сразу, как только разнеслась весть, что к Андамарке по дороге из Пукио приближается отряд.
Родственники убитых входили в комнату, где сидел прапорщик, и через двадцать-тридцать минут выходили оттуда, опустив головы, заплаканные, смущенные, будто сказали там что-то лишнее, то, чего не следовало говорить, и теперь раскаиваются в этом.
В Андамарке воцарилась мрачная тишина. За молчанием и хмурыми лицами люди скрывали страх и неуверенность, однако их внутреннее состояние выдавало бесцельное времяпрепровождение: они ничего не могли делать, только бродили до поздней ночи, как лунатики, по улицам. Многие женщины весь день молились в полуразрушенной церкви – ее свод обрушился при последнем землетрясении.
Прапорщик опрашивал людей целый день и часть ночи, не сделав даже перерыва на обед, он просто приказал принести тарелку супа с мясом и прихлебывал его, не прекращая дознания. Одна из немногих новостей этого необычного дня состояла в том, что вновь объявившийся дон Медардо Льянтак сидел рядом с прапорщиком очень взволнованный и давал ему информацию о каждом, кого тот вызывал, и вмешивался в допрос, требуя имена, детали.
А ночью вымученное спокойствие Андамарки лопнуло. В домах, на улицах и перекрестках, на площади – везде, где собирался народ, чтобы расспросить тех, кого вызывал прапорщик, начали вспыхивать ссоры, перебранки, раздались оскорбления и угрозы. Вскоре пошли в ход кулаки и ногти. Полицейские ни во что не вмешивались то ли потому, что получили такой приказ, то ли потому, что не имели никакого приказа на этот счет и не знали, как относиться к стычкам, в которые втянулись уже все жители. Безразлично или с презрением они смотрели на этих людей, обзывавших друг друга убийцами, прихвостнями, террористами, предателями, и, когда те от брани переходили к драке, не делали ни малейшей попытки разнять их.
Те, кого вызвали на допрос, старались умалить свою ответственность единственно возможным способом – расписывая вину других; таким образом прапорщик смог в общих чертах восстановить, как проходило судилище, и уже на следующий день пятеро мужчин и четыре женщины, ответственные за базу поддержки, были взяты под стражу в административном центре.
В полдень прапорщик собрал всех жителей Андамарки на площади – там на месте казни еще копошились грифы – и произнес речь. Не все хорошо понимали быстрый разговорный испанский язык побережья, на котором говорил прапорщик, но даже те, кто почти ничего не разобрал, без труда догадались, что он их отчитывает. За сотрудничество с террористами, за участие в этой пародии на суд, за то, что они были исполнителями позорной и преступной казни.
«Всю Андамарку следует судить и подвергнуть суровому наказанию», – повторил он несколько раз. Затем спокойно, но без всякого сочувствия выслушал невнятные и путаные оправдания жителей: дескать, все было не так, никто ни в чем не виноват, все случившееся – дело рук террористов. Они нас принуждали: приставляли автоматы и пистолеты к виску, говорили, что отрубят детям головы, как свиньям, если мы не будем бить осужденных камнями. Жители противоречили друг другу, спорили и в конце концов стали осыпать друг друга бранью. Прапорщик смотрел на них с жалостью.
Отряд целые сутки оставался в Андамарке. Вечером и ночью полицейские переписывали и конфисковывали имущество – ценные бумаги, украшения, кошельки и завернутые в бумагу деньги, которые они находили под матрасами, в двойном дне баулов и шкафов. Но никто из жителей не решался пожаловаться прапорщику, что их обобрали дочиста.
На следующее утро, когда отряд готовился покинуть деревню, захватив с собой арестованных, дон Медардо Льянтак на глазах всей деревни поспорил с офицером. Он требовал, чтобы несколько полицейских остались в Андамарке. Но прапорщик имел приказ вернуться в столицу провинции в полном составе. Жители сами должны позаботиться о своей защите, нести караульную службу.
– Но у нас нет оружия, прапорщик! – надрывался Медардо Льянтак. – Мы, значит, будем с палками, а они с винтовками? Так нам прикажете защищаться?
Прапорщик ответил, что переговорит со своим начальством. Попробует убедить его снова открыть здесь полицейский пост, закрытый примерно год назад. А затем отряд ушел, уводя с собой связанных в цепочку арестованных.
Спустя некоторое время родственники задержанных отрядом андамаркинцев добрались до Пукио, но власти не могли даже приблизительно ответить на их вопросы. Ни в одном полицейском участке не было никаких сведений о группе арестованных из Андамарки. Что же касается молодого прапорщика по прозвищу Грабли, он, по-видимому, получил новое назначение, поскольку в Пукио такого не было и никто из офицеров его не знал. Вот тогда-то дон Медардо Льянтак с женой исчезли из деревни, не сказав, куда направляются, ни своим детям, ни матери дона Медардо Льянтака.
* * *
– Я знаю, что ты уже проснулся и тебе до смерти хочется продолжить свой рассказ. Ладно, Томасито, я тебя слушаю.
Грузовик добрался до Уануко уже вечером, спустя двадцать часов после того, как выехал из Тинго-Марии. Два раза у него лопались камеры на размытой дождями дороге, и Томас спускался из кузова помочь шоферу. На подъезде к Акамайо, у шлагбаума, Томас и Мерседес, притаившись за мешками с фруктами, слышали, как полицейский спросил шофера, сколько пассажиров он везет, и тот ответил: «Ни одного». Они останавливались еще два раза – позавтракать и пообедать в придорожных закусочных. Томас и Мерседес выходили вместе с водителем, но не обменивались с ним ни словом. Он высадил их перед Центральным рынком.
– Я поблагодарил его за то, что он не выдал нас на контрольном пункте у Акамайо, – сказал Томас. – Кажется, он поверил, что мы скрываемся от ревнивого мужа.
– Если вы скрываетесь от кого-нибудь, то не задерживайтесь здесь, – посоветовал шофер, – Всю коку из сельвы везут этой дорогой, поэтому в городе полно сыщиков, ищут наркотики.
Он махнул на прощанье рукой и уехал. Уже стемнело, но огни на улицах еще не зажигались. Многие закусочные на рынке были закрыты, в остальных посетители ели при свете свечей. Пахло растительным маслом, жареным мясом и картофелем, лошадиным навозом.
– Я чувствую себя вконец разбитой, – сказала Мерседес. – Будто у меня все кости переломаны. К тому же затекли руки и ноги. А главное – я умираю от голода.
Она зевала и зябко потирала руки. Ее цветастое платье было испачкано грязью.
– Поищем, где можно отоспаться, – откликнулся на ее слова Карреньо. – Я тоже валюсь с ног от усталости.
– Ну и хитрец, здорово придумал, – восхищенно протянул Литума. – Отоспаться – переспать, а, Томасито?
Они расспрашивали людей, склонившихся над дымящимися тарелками супа, и мало-помалу выяснили, где можно найти скромную гостиницу или пансионат. Идти приходилось с осторожностью: на тротуарах повсюду спали нищие и бродяги, на темных улицах их облаивали злобные собаки. Пансионат «Лусиндо», который упоминали в закусочных, им не понравился, он был расположен рядом с полицейским участком. Но тремя кварталами дальше им приглянулся отель «Леонсио Прадо», двухэтажное здание с оштукатуренными стенами, жестяной крышей, украшенное игрушечными балкончиками, с баром-рестораном на первом этаже.
– Служащая спросила у меня карточку избирателя,[23] у Мерседес спрашивать не стала, но потребовала, чтобы мы заплатили вперед. – Томас начал увязать в деталях. – Она не обратила внимания на то, что мы были без багажа. А пока готовила нам номер, мы должны были ждать в коридоре.
– Один номер? – еще больше оживился Литума. – С одной кроватью на двоих?
– В ресторане никого не было, – продолжал Томас, не слушая его и все более углубляясь в детали. – Мы заказали суп и содовую. Мерседес все еще зевала и растирала руки.
– Знаешь, что будет обиднее всего, если терруки убьют нас сегодня ночью, Томасито? – перебил Литума. – Обиднее всего будет уйти из этой жизни, так и не увидев здесь ни одной голой бабы. С тех пор как я попал в Наккос, я живу, как кастрат. Для тебя, похоже, это не так важно, тебе достаточно воспоминаний о пьюранке, верно?
– Только этого не хватало, кажется, я заболеваю, – пожаловалась Мерседес.
– Отговорка! – возмутился Литума. – Ты ведь не поверил ей?
– Тебя растрясло в грузовике. Съешь суп, поспишь – и придешь в себя, – подбодрил ее Томас.
– Хорошо бы, – пробормотала она. Ее уже колотила дрожь, и, пока не принесли еду, она не открывала глаз.
– Зато я мог рассматривать ее в полное свое удовольствие.
– А я до сих пор не могу ее представить, – вздохнул Литума. – Не вижу ее. Мне не помогает, когда ты говоришь «Она замечательная» или «Она потрясающая». Опиши что-нибудь конкретное, какая она из себя.
– Лицо довольно полное, скулы – как два яблока, губы пухлые, нос точеный, – тотчас же откликнулся Томас, будто ждал этого вопроса и заранее уже подготовил ответ. – А когда она говорит, ноздри слегка шевелятся, как у собачки. От усталости под глазами появляются синие круги, и тогда кажется, что это тени от ее длинных ресниц.
– Ну и ну, вы только посмотрите! Да она тебя разгорячила, как того бычка, – восхитился Литума. – Ты и сейчас еще не остыл, Томасито.
– И хотя волосы ее растрепались, губная помада и краска на лице стерлись, и вся она была покрыта дорожной пылью, несмотря на все это, господин капрал, она нисколько не подурнела, – никак не мог покончить с этой темой Томас. – Несмотря ни на что, она осталась потрясающе красивой, господин капрал.
– У тебя по крайней мере есть воспоминания о Мерседес – хоть какое-то утешение. – В голосе Литумы сквозила грусть. – А у меня нет ничего такого, чтобы вспомнить о Пьюре. Нет ни одной женщины ни в Пьюре, ни в Таларе, да и вообще нет ни одной женщины в мире, по которой я бы тосковал.
Они в молчании съели суп, и им принесли пирог с рисом, который они не заказывали, но они заодно съели и его.
– Вдруг ее глаза наполнились слезами, хотя она изо всех сил старалась не плакать, – продолжал Томас. – Она вся дрожала, и я знал, почему – она думала о том, что с нами будет. Я хотел ее утешить, но не знал как. Будущее мне тоже казалось мрачным.
– Закругляйся с этой частью и переходи прямо к постели, – попросил Литума.
– Вытри слезы. – Карреньо протянул ей носовой платок. – Я позабочусь о тебе, все будет хорошо, клянусь тебе.
Мерседес вытерла глаза, но ничего не сказала. Их комната была на втором этаже, в конце коридора, кровати разделяла деревянная табуретка, заменявшая тумбочку. Лампочка, болтавшаяся на оплетенном паутиной шнуре, едва освещала грязные потрескавшиеся стены и доски пола, скрипевшие под ногами.
– Дежурная дала нам два полотенца и кусок мыла, – Томас все ходил вокруг да около, – и сказала, что, если мы хотим искупаться, надо сделать это сейчас, потому что днем вода до второго этажа не доходит.
Дежурная вышла, вслед за ней вышла и Мерседес, перекинув через плечо полотенце. Прошло довольно много времени, прежде чем она вернулась. Томас в ожидании ее прилег на кровать, лежал не двигаясь, напряженный, как натянутая гитарная струна, и при ее появлении испуганно вскочил. Голова Мерседес была обернута полотенцем, платье расстегнуто, туфли она держала в руках.
– Замечательный душ. Я прямо воскресла от холодной воды.
Он взял полотенце и тоже пошел мыться.
– Да ты рехнулся! – Литума был возмущен. – А если бы пьюранка в это время уснула?
Душ оказался просто краном, но вода из него била упругой струей и действительно была холодной. Томас намылился, растер тело и почувствовал, как уходит усталость. Закрыл кран, энергично вытерся, обмотал полотенце вокруг пояса. В темном коридоре отыскал дверь в их номер. Положил одежду на комод, рядом с вещами Мерседес. Добрался на ощупь до пустой кровати и нырнул под одеяло. Понемногу глаза привыкли к темноте. Замер, сдерживая волнение. Прислушался, уловил ее дыхание. Она дышала медленно, глубоко, ровно. Уже спала? Вдруг ему показалось, что он чувствует запах ее тела близко, совсем рядом. Сердце тревожно сжалось, он глубоко вздохнул. А может быть, пойти к крестному отцу, постараться объяснить ему все? «Так вот как ты отплатил мне за мою заботу, дерьмо ты собачье». Нет, ничего не поделаешь, придется удирать за границу.
– Я думал сразу обо всем и ни о чем в отдельности, господин капрал. – Голос помощника дрогнул. – Хотелось курить, но я не вставал, чтобы не разбудить ее. Было странно лежать в кровати так близко от нее. И думать: «Стоит протянуть руку, и я ее коснусь».
– Ну давай же, давай, – подгонял его Литума. – Не тяни резину.
– Ты сделал это, потому что я тебе понравилась? – неожиданно спросила Мерседес. – Уже тогда ты с Толстяком пришел встречать меня в аэропорту Тинго-Марии, да? Ты положил на меня глаз?
– Я видел тебя раньше, – шепотом ответил Томас, с трудом выговаривая слова, ему даже показалось, что заболел рот. – В прошлом месяце, когда ты приезжала в Пукальпу провести ночь с Боровом.
– Так это ты охранял нас в Пукальпе? Вот почему мне показалось знакомым твое лицо, когда я увидела тебя в Тинго-Марии.
– На самом деле она не помнила, что это я встречал ее в Пукальпе, – сказал помощник Литумы. – Что это я охранял там дом между рекой и лесопилкой. Всю ночь. И слушал, как он ее бьет. А она его умоляет.
– Если все это в конце концов не кончится тем, что ты ей вставишь, то я просто не знаю, что с тобой сделаю, – предупредил Литума.
– Теперь ясно, почему твое лицо мне показалось знакомым, – продолжала она. – Конечно, это был ты. Но это значит, что причины твоего поступка не возмущение и не религия. Ты потерял голову от ревности. Ты ведь поэтому застрелил его, Карреньито?
– У меня горело лицо, господин капрал. Если она и дальше будет говорить так, я дам ей пощечину, чтобы она замолчала, подумал я.
– Выходит, ты влюбился в меня! – заключила она сердито и одновременно сочувственно. – Теперь до меня дошло. Вы, мужчины, когда влюбляетесь, становитесь просто сумасшедшими. Мы, женщины, куда холоднее.
– Ты много повидала, знаешь жизнь, – откликнулся наконец Томас. – Но мне не нравится, что ты говоришь со мной как с мальчиком в коротких штанишках.
– А ты и есть мальчик в коротких штанишках. – Она засмеялась, но тут же стала серьезной и снова заговорила, выделяя каждое слово: – Если я тебе и впрямь понравилась, если ты влюбился в меня, почему же ты мне ничего не сказал? Ведь я тут, около тебя.
– И она была совершенно права! – воскликнул Литума. – Почему ты медлил? Чего ты дожидался, Томасито?
Раздался яростный лай собак – и они замолчали. Послышалось «Цыц, проклятые!» и удар камня. Собаки умолкли. Парень услышал, как она встает, и весь покрылся испариной: она направлялась к нему. Через секунду рука Мерседес коснулась его волос.
– Что, что ты говоришь? – Литума поперхнулся.
– Почему ты не лег со мной, когда вернулся из душа, Карреньито? Разве ты не хотел этого? – Рука Мерседес опустилась к его лицу, погладила щеки, скользнула на грудь. – Как оно бьется! Тук-тук-тук. Ты такой странный. Ты стесняешься? У тебя какие-нибудь проблемы с женщинами?
– Что-что-что? – повторял Литума, садясь на кровати и стараясь рассмотреть в темноте лицо Томаса.
– Я бы никогда не обращался с тобой так, никогда бы пальцем тебя не тронул, – прошептал парень, сжимая и целуя руку Мерседес. – А кроме того…
– Ты меня разыгрываешь, – недоверчиво пробурчал Литума. – Не может быть, не может того быть.
– Я никогда не был с женщиной, – решился наконец сказать Томас. – Можешь смеяться, если хочешь.
Мерседес не засмеялась. Карреньо почувствовал, как она поднимает одеяло, и подвинулся, освобождая место. Когда ее тело оказалось рядом, он обнял ее.
– Девственник в двадцать три года? – хмыкнул Литума. – Не знаю, что ты делаешь в полиции, молокосос.
Он целовал ее волосы, шею, глаза и слышал, как она тихо сказала:
– Кажется, теперь я понимаю, Карреньито.
IV
Продвинулась ли эта дорога вперед? Литуме показалось, что она, наоборот, отступила назад. За те месяцы, что он провел здесь, строительство останавливалось уже три раза, и каждый раз события повторялись, как на заигранной пластинке. Правительство направляло строительной компании ультиматум, и в конце недели или месяца работы прекращались. Профсоюз проводил общее собрание, пеоны занимали служебные помещения, захватывали технику и требовали гарантий. Инженеры куда-то исчезали, поселок оказывался в руках бригадиров и бухгалтера, которые поддерживали забастовщиков и по вечерам сидели с ними у общего котла на пустой площадке среди бараков. Все происходило спокойно, никаких беспорядков, так что капралу и его помощнику не приходилось вмешиваться. Забастовки заканчивались загадочно – без сколько-нибудь ясного решения о дальнейшей судьбе строительства. Просто компания или представитель правительства, присланный уладить разногласия, обещали никого не увольнять и оплатить рабочим все дни простоя и, после этого работы возобновлялись как в замедленной киносъемке. При этом Литума готов был поспорить, что начинали строители не там, где кончили, а с уже пройденного места. То ли из-за обвалов и оползней, вызванных взрывами в горах, то ли из-за проливных дождей и наводнений, размывавших полотно и насыпь, или по какой-то другой причине, только рабочие, как казалось капралу, взрывали динамит, разравнивали полотно, насыпали и утрамбовывали гравий и укладывали асфальт там же, где он застал их, когда приехал в Наккос.
Он стоял высоко над каменистым склоном, у самой кромки снегового покрова, в полутора километрах от поселка; в чистом утреннем воздухе хорошо были видны поблескивающие на солнце оцинкованные крыши бараков. «У входа в заброшенную шахту», – сказал тот тип Томасу. Вот он, этот вход, наполовину заваленный прогнившими деревянными брусьями, служившими когда-то подпорками в штольнях, и камнями. А если его просто заманили в засаду? Если все это придумано для того, чтобы разъединить его и Карреньо? Их схватят поодиночке, будут пытать и убьют. Литума представил свой труп – изрешеченный пулями, весь в кровоподтеках, с вывернутыми руками и ногами и с табличкой на груди, на которой красными буквами написано: «Так подохнут все псы буржуазии». Он достал из кобуры свой «смит-вессон» тридцать восьмого калибра и осмотрелся: камни, небо, несколько белых облачков вдали. Но ничего живого, ни одной птички вокруг, черт подери.
Человек, который накануне говорил с Томасито, подошел к нему сзади, когда тот смотрел футбольный матч между командами пеонов, и, сделав несколько общих замечаний по ходу игры, шепнул: «Кое у кого есть сведения о пропавших. Их могли бы сообщить капралу лично. Но за вознаграждение. Идет?»
– Не знаю, – ответил Карреньо.
– Улыбайтесь, – добавил тип. – Смотрите на мяч, следите за игрой, чтобы никто ничего не заметил.
– Хорошо, – сказал Томас. – Я передам командиру.
– Пусть приходит завтра утром, на заре, к заброшенной шахте, один, – объяснял тип, жестикулируя и всем своим видом показывая, будто переживает перипетии игры. – Смейтесь, следите за мячом. И главное: забудьте обо мне.
Вернувшись на пост, Карреньо, захлебываясь от волнения, рассказал капралу о разговоре.
– Наконец хоть какая-то зацепка, господин капрал.
– Посмотрим, Томасито. Все может быть. Как ты думаешь, кто он такой, этот тип?
– Похож на пеона. Раньше я его, по-моему, не видел.
Капрал вышел затемно и встретил восход солнца уже по дороге на шахту. Поднимался он к ней довольно долго. Первое возбуждение уже улеглось. Даже если это и не западня, то вполне возможно, что все окажется дурацкой шуткой какого-нибудь чертова горца, едрена мать, которому захотелось посмеяться над капралом. Вот он, полюбуйтесь, стоит как болван, с револьвером в руке, дожидаясь неизвестно чего и кого.
– Доброе утро, – неожиданно раздался голос сзади.
Он резко обернулся, вскинув свой «смит-вессон», – перед ним стоял Дионисио, хозяин погребка.
– Что вы, что вы! – Дионисио улыбался и успокаивающе махал руками. – Опустите ваш револьвер, господин капрал, не ровен час выстрелит.
Да, это он, низенький, крепко сбитый живчик в неизменном синем свитере с вытертым под подбородком воротником. Эти толстые, точно вымазанные сажей щеки, эти позеленевшие зубы, клок сивых волос надо лбом, воспаленные пьяной лихорадкой глазки и руки, как мельничные крылья, – он! Литума вышел из себя. Что ему здесь надо?
– Не стоило подкрадываться ко мне, – процедил он сквозь зубы. – Так недолго и пулю схлопотать.
– Да, все мы здесь нервные. И немудрено, когда вокруг творится такое, – как всегда, вкрадчиво заговорил Дионисио. Его медоточивый голос и заискивающая манера речи не вязались, однако, с уверенным и даже презрительным взглядом маленьких водянистых глаз. – А больше всего нервничают полицейские. Оно и понятно. Как же иначе.
Литума всегда испытывал неодолимую неприязнь к Дионисио, а в этот момент и вовсе был не склонен верить ему. Тем не менее он постарался не выдать своих чувств. Шагнул к трактирщику, протянул руку:
– Я здесь жду кое-кого, так что вам придется уйти.
– Вы ждете меня, – засмеялся Дионисио. – Вот я и явился.
– Вы не тот, кто говорил вчера с Томасито.
– Забудьте о нем, заодно забудьте и мое имя, и мое лицо. – Хозяин погребка опустился на корточки. – Вы лучше тоже присядьте, нас могут заметить снизу. Наша встреча секретная, никто не должен знать о ней.
Литума сел на плоский камень.
– Так, значит, вы можете сообщить какие-то сведения о троих пропавших?
– Из-за этой встречи я рискую шкурой, господин капрал, – вполголоса сказал Дионисио.
– Все мы здесь каждый день рискуем шкурой, – так же тихо уточнил Литума. Высоко в небе появился темный силуэт птицы. Она парила прямо над ними, зависла на одном месте с распластанными крыльями, поддерживаемая невидимым восходящим потоком теплого воздуха. На такой высоте летают только кондоры. – Животные и те тут рискуют, бедняги. Вы слышали об этой семье в Уанкапи? Там, говорят, казнили не только людей, но и собак.
– Вчера в погребок заходил человек, которой был в Уанкапи, когда пришли терруки, – с готовностью и даже, как показалось Литуме, радостно подхватил Дионисио. – Они устроили там свой обычный народный суд. Кому повезло – отделались поркой, а другим размозжили головы.
– Не хватает только, чтобы они начали пить кровь и есть сырое человечье мясо.
– Дойдем и до этого, – уверенно сказал Дионисио, и Литума уловил зловещий огонек, вспыхнувший в его глазах. «Того и гляди, накаркает, ворон», – мелькнуло в голове.
– Ладно, вернемся к здешним делам, – сказал он вслух. – Если вы разбираетесь в этой чертовщине, растолкуйте мне, что все это значит, буду вам благодарен. Эти исчезновения. Я прямо как в лесу. Видите, я говорю с вами откровенно. Их убили сендеристы? Или увели? Надеюсь, вы не будете, как донья Адриана, рассказывать мне сказки о духах гор.
Дионисио, не глядя на Литуму, водил по земле прутиком. Взгляд Литумы опять зацепился за синий свитер и клок седых волос. Горцы редко бывают седыми. Даже у дряхлых, скрюченных стариков, которые усыхают до такой степени, что становятся похожими на детей или карликов, даже у них волосы остаются черными. Ни лысины, ни седины. Наверное, из-за климата. А может, из-за лошадиных доз коки, которую они жуют не переставая.
– Ничто не делается за спасибо. – Хозяин погребка говорил очень тихо, почти шепотом. – Если я открою то, что знаю, в Наккосе поднимется переполох. Полетят головы. Сообщая эти сведения вам, я рискую жизнью. Разве это не заслуживает благодарности? Вы меня понимаете?
Литума похлопал по карманам, ища сигареты. Предложил закурить Дионисио. Закурил сам. Заговорил осторожно:
– Не буду вас обманывать. Если вы хотите получить за вашу информацию деньги, у меня нет такой возможности, я не смогу заплатить вам. Вы ведь видите, в каких условиях мы живем, я и мой помощник. Хуже пеонов, не говорю уж о бригадирах. Я мог бы запросить начальство в Уанкайо. Да они не скоро ответят, если ответят вообще. Мой запрос пойдет по радио компании, а это значит, обо всем узнает радист, то есть, считайте, весь Наккос. И в конце концов мне ответят что-нибудь вроде: «Этому типу, который требует вознаграждение, оторви яйцо, тогда он сразу заговорит. Не заговорит – оторви другое. А будет и дальше молчать – воткни ему в жопу штык».
Дионисио зашелся от смеха, захлопал в ладоши. Литума тоже засмеялся, но неохотно. Парившая в высоте птица в крутом вираже пошла вниз, величественно описала дугу над их головами и, как бы выражая презрение к тому, что увидела, стала удаляться. Кондор, точно. Литума знал, что в некоторых деревнях Хунина во время храмовых праздников горцы привязывают пойманных кондоров к быкам, чтобы они клевали их во время корриды. Впечатляющее, должно быть, зрелище.
– Вы хороший полицейский, – отсмеявшись, сказал Дионисио. – Это признают все в поселке. Вы не злоупотребляете своей властью. Многие на вашем месте вели бы себя иначе. И заметьте: это вам говорит человек, который знает сьерру как свои пять пальцев. Я исходил ее всю – вдоль и поперек.
– Я пришелся пеонам по душе? Неудивительно! Что они могут иметь против меня? – Литума улыбнулся. – Мне с ними делить нечего, ведь я до сих пор дружком не обзавелся в поселке.
– Вы и ваш помощник пока живы – вот лучшее доказательство, что вас уважают. – Дионисио сказал это так просто, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся, например: вода, известное дело, жидкая, а ночь – темная. Он снова повозил по земле прутиком и добавил: – А к этим троим, наоборот, ни у кого не лежала душа. Знаете ли вы, кстати, что Деметрио Чанка вовсе не Деметрио Чанка, это его ненастоящее имя.
– Как же его зовут на самом деле?
– Медардо Льянтак.
Они молча курили. У Литумы от нетерпения начало зудеть тело. Дионисио все разнюхал, все выведал. Сейчас он тоже узнает правду. Узнает наконец, что сделали с похищенными. Безусловно, что-то ужасное. Кто их похитил? И почему? А этот пьянчужка-перевертыш, вне всякого сомнения, был сообщником. День между тем разгорался. Приятная теплота сменила утреннюю свежесть. Воздух, удивительно прозрачный, позволял рассмотреть далеко внизу мельтешащие фигурки пеонов.
– Я хотел бы узнать, что с ними произошло. И был бы очень вам благодарен, если бы вы рассказали об этом. Рассказали все. Без утайки. Это дело не дает мне покоя. И по какой причине Медардо Льянтак взял имя Деметрио Чанка.
– Он сменил имя потому, что скрывался от терруков. А может быть, и от полиции. В Наккосе, он думал, до него никто не доберется. Говорят, как бригадир он был большой зануда.
– Значит, его убили, и тут уже ничего не попишешь. Они все погибли, да? Их убили терруки? В поселке много сендеристов?
Дионисио сидел, опустив голову и все еще водил прутиком по земле. Литума смотрел на седой клок, резко выделявшийся среди темных спутанных волос. Ему вспомнилась попойка в переполненном погребке в День Отечества. Дионисио, кругленький, как виноградина, с дурным блеском в глазах, призывал своих посетителей танцевать, мужчину с мужчиной – любимое его занятие, которому он предавался каждой ночью. Он переходил от столика к столику, приплясывал, подпрыгивал, изображал медведя и вдруг неожиданно спустил брюки. Литума снова услышал смех доньи Адрианы, хохот пеонов и снова увидел дебелые лоснящиеся ягодицы хозяина погребка. Как и той ночью, горло стиснул спазм отвращения. Интересно, какие мерзости творились в погребке после того, как они с Томасито ушли оттуда? Голова с седой прядью кивнула, прут оторвался от земли, описал в воздухе полукруг и застыл, указывая на вход в шахту.
– Они здесь? В этой штольне? Все три трупа?
Дионисио ничего не ответил. Пухлая рука опустилась и снова принялась чертить на земле узоры, на этот раз с явным раздражением.
– Я бы вам не советовал лезть туда искать их, – ответил он наконец, и Литуме в его любезном предупреждении послышался какой-то подвох. – Эти штольни и штреки держатся только чудом. Один неосторожный шаг – и все обвалится. А кроме того, там полно газа. Но трупы, конечно, где-то в этих лабиринтах, если их еще не сожрали муки. Вы знаете, кто это? Это шахтные черти, они мстят людям, которые из-за своей жадности тревожат и разрушают горы. Они убивают горняков. Пожалуй, будет лучше, если я вам больше ничего не скажу, господин капрал. Если вы будете знать лишнее, вам крышка. Не проживете и часу. Я собирался рассказать все за деньги, хотя и знал, что этим толкаю вас в могилу. Нам нужны деньги, чтобы убраться отсюда. Вы ведь уже догадались. Они могут нагрянуть в любую минуту. После вас и вашего помощника мы с женой стоим следующие в их списке. А может быть, и первые. Они же ненавидят не только полицейских ищеек. Ненавидят и тех, кто пьет и распутничает. И тех, кто спаивает и вовлекает в распутство, и вообще всех, кто предается веселью, несмотря на тяготы жизни. Так что мы тоже обречены, нас тоже забьют камнями. Надо уезжать. Но где взять деньги? А вам повезло, что вы не узнали тайну и вам не придется за нее расплачиваться. Это спасло вам жизнь, господин капрал!
Литума раздавил каблуком окурок. Похоже, так оно и есть: он до сих пор жив, потому что ничего не знает. Он попробовал представить себе изуродованные, разбитые тела в глубине сырых штреков и забоев, в вечном мраке, насыщенном сернистым газом, пропитанном вонью взрывчатки. Стало быть, донья Адриана говорила правду. Но не исключено, что их убили из-за каких-то суеверий. Сендеристы не кидают людей в шахты, они выставляют трупы на всеобщее обозрение. Как бы то ни было, хозяину погребка доподлинно известно, что именно произошло. Кто же все-таки мог сделать это? А что, если сунуть ему в рот «смит-вессон»: раскалывайся или отправишься к ним на дно штольни. Лейтенант Сильва,[24] там, в Таларе, тот, наверное, так бы и сделал. Литума рассмеялся.







