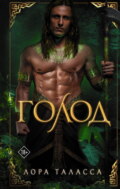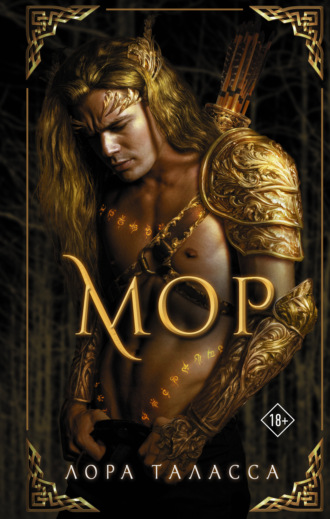
Лора Таласса
Мор
Глава 4
Я просыпаюсь от того, что чувствую чужую руку на горле.
– Из всех гнусных смертных, что попадались мне в пути, ты, пожалуй, самая скверная.
Я распахиваю глаза.
Надо мной нависает монстр, все его лицо в кровоточащих язвах, кожа обуглена, сморщена, а местами ее нет.
Я бы его не узнала, если бы не глаза.
Ангельские голубые глаза. Похожую фигню рисуют на стенах церквей.
Это мой всадник.
Восставший из мертвых.
– Невероятно, – хриплю я.
От него пахнет золой и горелой плотью.
Как он смог выжить?
Он крепче сжимает мне шею.
– Глупая ты смертная. Неужели ты думаешь, что за все время моего существования никто не пытался сделать то, что не удалось тебе? В Торонто меня хотели подстрелить, в Виннипеге выпотрошить, в Буффало пытались зарезать, а в Монреале душили. Все это и многое другое проделывали не только там, но и во множестве других городов, названия которых тебе вряд ли что-нибудь скажут, потому что вы, смертные, очень ограничены.
Кто-то уже… пытался?
Пытался и потерпел неудачу.
Чувство, будто мне в лицо плеснули ледяной водой. Конечно, кто-то уже пробовал его прикончить. Мне следовало быть умнее и догадаться. Но в хронике такого не показывали, я не слышала ни одного репортажа о покушениях. Те, кто хотел его убрать, не сумели сообщить людям, что его невозможно убить.
– Где бы я ни был, – продолжает он, – всюду находится кто-то вроде тебя. Люди, считающие, что могут меня убить и тем спасти свой прогнивший мир.
Очень трудно отвести глаза и не смотреть на его лицо, изуродованное и ужасающее. И все же – сейчас он выглядит намного лучше, чем когда я оставила его в лесу, когда от него оставался практически только пепел.
Мор придвигается ко мне.
– И теперь ты заплатишь за то, что осмелилась совершить.
Он рывком поднимает меня.
Последние остатки сна, если они и были, испаряются окончательно. Я хватаю его за руку и ахаю, наткнувшись на кость и сухожилия.
Как он может шевелить рукой, если от нее ничего не осталось, только кости и связки? Но хватка у него стальная, уверенная.
Мор вытаскивает меня из палатки, бросает на землю. Я падаю на колени, проваливаясь ладонями в неглубокий снег.
В спину упирается колено. Мор обшаривает меня, ищет, нет ли при мне оружия. Я вздрагиваю при мысли, что он касается меня голой костью. Дотянувшись до карманов, он выбрасывает швейцарский армейский нож и спичечный коробок.
В темно-синем предрассветном свете лес выглядит зловеще. Тишина, как в склепе, все обитатели давно попрятались.
Закончив обыск, Мор медлит.
– Где же твой боевой задор? – насмешливо спрашивает он, когда я продолжаю оставаться на месте. – Раньше ты действовала очень быстро. Где же теперь этот проклятый человеческий огонь?
Я все еще пытаюсь сосредоточиться и осознать, что комок тлеющей плоти, который я оставила у обочины вчера вечером, непостижимым образом регенерировал. И он разговаривает.
– Что, нечего сказать? Хм, – он хватает меня за запястья и связывает их грубой веревкой у меня за головой. Я почти уверена, что этот шпагат взят им из моих вещей. – Ну, наверное, это и хорошо. Разговоры со смертными обычно оставляют желать лучшего.
Давление на мою спину уменьшается.
– Вставай, – приказывает он.
Я слишком медленно выполняю приказ, поэтому он тянет за веревку и рывком ставит меня на ноги. Теперь я снова могу его как следует рассмотреть.
Он еще ужаснее, чем мне показалось сначала. Волос нет, носа нет, ушей нет, кожа до сих пор черная. Это и не человек вовсе, и уж точно такое не должно вести себя, как живое существо.
Но золотые доспехи на месте, ни пятнышка, ни царапинки, а ведь должны быть исковерканы и изрешечены дробью. Руки под латами почти не видны, но от них, видимо, мало что осталось, судя по тому, как болтается и громыхает металл. А кисти рук… это просто белые кости с ошметками плоти, так же как щиколотки и ступни.
На поясе у него одно из моих одеял. Стащил, видно, пока я спала. При этой мысли мне становится стыдно.
Дергая за связанные руки, Мор выводит меня на дорогу. Заметив белого коня, который терпеливо дожидается хозяина, я отворачиваюсь: бок у него сплошь красный от крови. Он роет копытом покрытый снежком асфальт и шумно фыркает. Увидев меня, конь тревожно ржет и бочком отходит подальше.
Мор, не обращая внимания на беспокойство лошади, привязывает другой конец веревки к седлу.
Я смотрю на связанные руки, потом на коня.
– Что ты делаешь?
Он не отвечает и садится в седло.
– Ты собираешься меня убить? – спрашиваю я.
Он поворачивается, и мне кажется, что я вижу на этой жуткой маске горечь и злость.
– О нет, я не дам тебе умереть. Слишком быстро. Страдания созданы для живых. И поверь, я заставлю тебя страдать.
Глава 5
Весь день Мор гонит коня рысью, и мне приходится бежать следом, чтобы не упасть. Не хочу, чтобы меня тащили волоком за связанные запястья. Хорошо еще, что я не офисный сотрудник, а пожарный, и привыкла к многочасовым тяжелым нагрузкам. Но даже при этом я, хотя и не отстаю от всадника, чувствую себя ужасно, а моя теплая одежда насквозь промокла от пота.
Мы минуем Уистлер, и я перевожу взгляд с одного знакомого здания на другое. Мой родной городок, где я появилась на свет, где зимой каталась на сноуборде, а летом плескалась в озере Чикамас, где училась водить папину машину, где впервые влюбилась и целовалась, где случились и все другие важные для меня события. Мысленно я прощаюсь со всем этим, и мы оставляем город позади.
Я бегу несколько часов, веревка стерла запястья в кровь, и у меня больше нет сил продолжать в том же духе.
Не может же это длиться вечно.
И мне совсем не легче от того, что по всаднику не понять, когда он собирается остановиться. И собирается ли вообще. Каждый километр тянется, как вечность. Когда он наконец сворачивает с шоссе, мне хочется плакать от облегчения. Мне абсолютно безразлично, какие еще кошмары он для меня припас. Пока что, похоже, бегство из ада подходит к концу, и только это имеет значение.
Мы медленно едем по заснеженной дороге, пока она не упирается в дом. И тогда – хвала Господу! – перед входом в дом мы останавливаемся.
С самого утра Мор ни разу не удосужился на меня оглянуться, да и сейчас – он спрыгивает с коня и привязывает поводья к столбу, а на меня не обращает внимания, словно я невидимка. Но вот он обходит своего скакуна, и становится ясно, что он обо мне не забыл.
При виде Мора я тихо ахаю. Ангелоподобный всадник, каким я его впервые увидела, вернулся. Изуродованное лицо с висевшей клочьями плотью почти совсем восстановилось. Кое-где еще остались красные пятна и блестящая кожа на месте заживающих ран от дроби и ожогов, но у него снова есть нос, губы и уши, так что самое главное на месте. Даже волосы вернулись, хотя золотистые волны пока совсем короткие – только-только чтобы запустить в них пальцы.
Теперь, когда он снова цел, я не могу отвести от него глаз и ничего не могу с собой поделать. Хотелось бы мне сказать, что я уставилась на него от ужаса, но нет, это будет неправдой.
Он невероятно хорош собой, с этими скорбными синими глазищами, высокими скулами и убийственной нижней челюстью. Я шевелю рукой, пытаясь заправить за ухо прядь потных каштановых волос.
Что со мной не так?
– Понравилась пробежка? – спрашивает он.
– Пошел ты, – у меня нет сил вложить побольше яда в свою ругань.
Он, тем не менее, кривит рот, отвязывая мою веревку от седла.
Как и лицо, кисти его рук почти в полном порядке. Я не вижу ни костей, ни сухожилий, ни вен и артерий, вообще ничего внутреннего, что еще несколько часов назад было наружным. Правда, пока кожа на руках очень красная и шелушится.
Мор отворачивается, и мне становятся хорошо видны его золотой лук и колчан со стрелами.
Этим оружием он убил множество людей и вскоре убьет еще больше, наш мир обречен, черт его побери, потому что этот тип не может умереть, а если его не остановить, он не прекратит убивать.
Можно распрощаться с мыслью его прикончить.
На бедрах Мора до сих пор намотано одеяло. Это могло бы показаться комичным, учитывая, что ноги у него босые (и почти зажили), но над этим всадником смеяться не хочется.
Я гляжу на него дольше, чем нужно, и, прости меня за это, Господи, невольно отмечаю, что его фигура так же совершенна, как и лицо. Широкие плечи, узкие бедра – я готова глаза себе выколоть. Должны же быть какие-то приличия, какие-то правила, запрещающие глазеть на парня, которого ты пыталась убить.
Он идет вперед и дергает за веревку. Чертыхаясь, я бросаюсь за ним, пытаясь не отстать, а он шагает к дому.
Следом и я буквально подползаю к этому двухэтажному строению. Дом красивый, хотя, честно говоря, вполне обыкновенный: крашеные доски, зеленая дверь, под одним из окон занесенный снегом цветочный ящик.
Почему он пришел именно сюда?
Мор почти бежит к входной двери и с размаху пинает ее. Есть такой способ открывать дверь. Но есть же и другой – за чертову ручку, как нормальные люди.
Меня он тащит за веревку, как непослушную собаку, которую нельзя спускать с поводка.
По тому, как тихо в доме, ясно, что хозяев нет, и они, вероятно, не появлялись здесь с тех пор, как начались предупреждения об опасности. И слава Богу. Лучше пусть они сейчас будут где угодно, чем здесь.
Мор входит в гостиную, таща меня за собой. Теперь, когда мне не нужно бежать, спасая жизнь, просыпается боль. Запястья пульсируют, их жутко дергает, а пот очень быстро охлаждает тело. А уж о том, как утром будут болеть ноги, я даже думать не хочу.
Всадник привязывает веревку к перилам лестницы – один узел, два, три.
– Сам же понимаешь, как только ты отойдешь, я попытаюсь сбежать, – говорю я.
– Я кажусь тебе взволнованным, смертная? – спрашивает он, резко затягивая узел.
– Трудно сказать, у тебя не все части на месте.
Вру, но он еще не видел себя в зеркале, так что не проверит.
Мор сверлит меня долгим взглядом – его неприязнь ко мне почти можно потрогать, – потом поднимается по лестнице. По всему дому эхом разносятся его шаги.
Насчет побега я не шутила. Как только он скрывается, я так набрасываюсь на путаницу узлов, как будто от этого зависит моя жизнь. Тем более, что так оно и есть.
Я отчаянно дергаю за веревки, привязывающие меня к перилам (и где только этот тип, чтоб его черт побрал, научился так вязать узлы?), но тут он возвращается, неся смену одежды. Одежда и клейкая лента.
Для полноты картины не хватает только кожаного белья и плетки. Но я сомневаюсь, что Мор, когда говорил о страданиях, подразумевал что-то в этом духе. И это к лучшему. Не думаю, что это круто, заниматься садо-мазо с парнем, которого ты пыталась убить. Хотя бы не в первую же ночь.
Мор кладет вещи на диван, не сводя с меня глаз. Снимает по частям латы. Под ними остатки рубахи, но эти ошметки не скрывают обнаженного торса.
Даже сейчас, после травм, это образец мужской красоты. Мускулы проработанные, руки одновременно крепкие и изящные, грудные мышцы красиво округлы, а пресс вообще фантастический.
Кожа на груди местами еще красная и воспаленная. Ему, наверное, было ужасно больно ехать весь день по морозу в одном одеяле, пока доспехи царапали обожженную плоть.
Я не сразу замечаю, что раны – не единственное, что пятнает кожу Мора. Его грудь, как обруч, обхватывает цепочка странных светящихся букв. Вторая такая же полоса начинается на бедрах и уходит вниз, скрываясь под одеялом. Они тускло поблескивают, как янтарь.
Я ошеломленно замираю, уставившись на них. Мне доводилось видеть разные татуировки, но таких, чтобы светились, никогда. Если бы мне не хватило возрождения из мертвых, чтобы поверить в его потустороннее происхождение, то эти письмена убедили бы наверняка.
Мор тянется к краю одеяла – не то плаща, не то набедренной повязки – и я, моргнув, отворачиваюсь, пока ненароком не увидела лишнего.
Через несколько секунд он подходит ко мне со скотчем в руке. Одежда, в которую он переоделся, – джинсы и фланелевая рубаха – совсем не похожа на то, в чем он был, когда я увидела его впервые. Впрочем, на нем все это смотрится на удивление хорошо, учитывая, что среди обычных мужиков редко встретишь такого высокого и широкоплечего, как этот всадник.
Уставившись на меня пронзительно-голубыми глазами, он начинает разматывать клейкую ленту.
– Раз уж ты любезно изложила мне свои намерения… – он обматывает скотчем веревочные узлы сначала на перилах, а потом на моих руках, лишая меня последней надежды на побег, – думаю, это хотя бы на время удержит тебя на месте.
Мор обрывает конец ленты и отшвыривает скотч в сторону.
Я сверлю его взглядом, но напрасно. Он вообще не обращает на меня внимания.
Всадник отходит к дровяной печи и принимается разжигать огонь.
– И что теперь? – спрашиваю я. – Так и будешь держать меня на привязи, пока я не сдохну от чумы?
Вообще-то я не чувствую себя больной – хотя кто его знает, может, это оно и есть. Трудно сказать наверняка, потому что я чувствую себя так, будто меня машиной переехало, причем дня три назад.
Мор поворачивает голову в мою сторону – чуть-чуть – и снова возвращается к огню. Через пару минут в печи уже бушует пламя, а еще через какое-то время я чувствую тепло.
Мор сидит у огня на корточках, спиной ко мне, и потирает лицо рукой.
– Я умолял, – говорит он. – Израненный, истекающий кровью, я молил о милосердии, но ты не сжалилась надо мной.
Внутри у меня все переворачивается.
– Тебе не заставить меня пожалеть об этом, – вру я, потому что это возможно. На самом деле, я пожалела и раскаялась в содеянном еще до того, как спустила курок, а потом снова, когда уронила спичку. Это ничего не меняет, и все равно – мне жаль. Мне правда жаль. Из-за этого во рту у меня горько-солоноватый привкус.
– Не смею даже надеяться на такое отношение от таких, как ты, – говорит он, все еще не поворачиваясь.
– А чего ты хотел, ведь ты же сам пришел убивать нас, – напоминаю я.
Как будто я вообще должна перед ним оправдываться. Сама не понимаю, зачем я это делаю.
– Люди превосходно справлялись, уничтожая друг друга сами, без моей помощи. Я здесь лишь затем, чтобы закончить дело.
– И ты еще удивляешься, что я не проявила к тебе милосердия.
– Милосердие, – он выплевывает это слово, как ругательство. – Если бы только ты была способна понять всю иронию своего положения, смертная…
Он снова поворачивается к огню, кладет подбородок на кулак, и я догадываюсь, что разговор окончен.
Я вспоминаю свою родню. Как же я надеюсь, что они достаточно далеко от всадника, чтобы избежать его заразы.
В отличие от обычных вирусов мессианская лихорадка не подчиняется законам науки. Вы можете быть очень далеко от Мора, объявить карантин, запереться в собственном доме, но каким-то образом все равно ее подхватите. Непонятно, на какое расстояние надо убежать, чтобы точно избежать заражения, известно только, если задержитесь в городе, в котором объявился Мор, то наверняка умрете. Да, все настолько просто.
Ты пока не умерла, проносится в мозгу.
Прошло уже больше суток с тех пор, как я впервые встретилась с ним один на один. Конечно, к этому времени я уже что-нибудь бы почувствовала.
Кстати, об ощущениях…
Я меняю позу. У меня болят не только ноги и запястья. Желудок урчит уже не знаю сколько времени, а мочевой пузырь того гляди лопнет.
Я прочищаю горло.
– Мне нужно в туалет.
– Можешь сделать все там, где сидишь, – Мор по-прежнему не отводит глаз от огня, словно надеется прочитать будущее.
Он ведет себя так, что мне все проще и проще не чувствовать себя виноватой из-за того, что стреляла в него и подожгла.
– Если ты рассчитываешь сохранить мне жизнь, – говорю я, – учти, что мне нужно есть и пить, а еще спать и справлять большую и малую нужду.
Ну как, ты еще не жалеешь, приятель?
Мор вздыхает, встает и подходит ко мне, уверенный, прямо командир. Он уже совсем не то чудовище, которое разбудило меня утром, и это меня злит, как ничто другое.
Надев фланелевую рубашку, джинсы и ботинки, он стал до боли похож на человека. Даже его глаза (когда я в первый раз заглянула в них, они показались мне совершенно чуждыми) сейчас полны жизни. Жизни и страдания.
Подцепив пальцами ленту на моих руках, он без усилия рвет этот «браслет» пополам.
Запомним: этот ублюдок силен.
Он срывает остатки ленты, отвязывает веревку от перил. За эту привязь он ведет меня по коридору, остановившись только перед туалетом.
Проблема в том, что он заходит вместе со мной и закрывает дверь.
Я вижу широкую грудь, перекрывшую выход.
– Вообще-то, это называют кабинетом уединения, – намекаю я.
– Мне знаком этот термин, коварная смертная, – с этими словами он складывает руки на груди. – Но почему ты решила, что этого достойна, известно лишь Высшей силе.
Фыркнув, я отворачиваюсь.
Пытаюсь расстегнуть штаны, и тут осознаю проблему номер два. Руки онемели, я их почти не чувствую, а сейчас нужно действовать быстро и точно.
Проклятье.
– Мне нужна помощь.
Мор подается назад и опирается на дверь.
– Я не склонен тебе ее оказывать.
– Ой, ради…
– Бога? – договаривает он за меня. – Ты в самом деле полагаешь, что Он тебе поможет?
Пытливый исследователь во мне тут же цепляется к этим словам, но сейчас не совсем подходящий момент для того, чтобы разгадывать тайны мироздания.
Я шумно вздыхаю.
– Слушай, если жалеешь, что оставил меня в живых, лучше убей. Но если ты зациклился на своей идее, я была бы очень благодарна, если б ты стянул с меня эти проклятые джинсы.
– Ты будешь страдать, если обделаешься? – интересуется он.
Я колеблюсь. Он и не скрывает, что вопрос с подвохом.
Как лучше ответить, чтобы не напортить себе?
– Да, – вздыхаю я наконец, решив выбрать правду, – буду.
Он снова с довольным видом опирается на дверь.
– Как я уже сказал, я не расположен тебе помогать.
Он, однако, не собирается и уходить. Но теперь я благодарна уже за то, что он отвел меня в сортир.
Стиснув зубы, я снова пробую расстегнуть джинсы. Веревка впивается в истертые запястья, и они протестующе вспыхивают болью. Я вожусь мучительно долго, но все-таки мне удается расстегнуть молнию, стянуть джинсы, а за ними следом теплые подштанники и трусы.
Мор безразлично смотрит в мою сторону, его взгляд скользит по всей этой красоте, выставленной на обозрение.
Убейте меня.
Он кривит губу.
– Уж извини, – реагирую я, – но если тебе так неприятно, можешь подождать за дверью. (И дай мне спокойно сходить в туалет, а потом удрать.)
– Справляй свою нужду, смертная. Я устал здесь стоять.
Бормоча под нос проклятия, выполняю его пожелание.
Всадник Апокалипсиса смотрит, как я писаю.
Никогда в жизни я не смогла бы догадаться, что из всех фраз на английском языке мне когда-то придет в голову именно эта. Я подавляю истерический смех. Я скоро умру, но, похоже, сначала убьют мое чувство собственного достоинства.
Вытереться, спустить воду, натянуть штаны – все это занимает даже больше времени – а потом я еще и мою руки.
Хорошо хотя бы, что здесь пока есть вода, чтобы вымыть руки. В отличие от бытового электричества водоснабжение пострадало намного меньше. Почему так – не знаю, хоть убейте, но я не жалуюсь. Это помогло нам справиться с массой пожаров с тех пор, как мир покатился к чертям.
Когда я заканчиваю, всадник ведет меня по коридору обратно и при этом так дергает за поводок, что я едва не падаю. А потом опять привязывает меня к перилам, а сам возвращается к печке.
– Значит, вот чем ты занимаешься? – спрашиваю я. – Ходишь из города в город и занимаешь чужие дома?
– Нет, – бросает он через плечо.
– Тогда почему мы здесь?
Он с шумом выдыхает, как будто я его просто дико раздражаю, – а так оно и есть, но, честно говоря, это только начало, наш паренек, считай, ничего еще не видел, – и игнорирует мой вопрос.
Это его любимый ход, как я начинаю понимать.
Я перевожу взгляд с его спины на свои израненные запястья.
– Что случилось с остальными? – спрашиваю я тихо.
– Какими остальными? – отрывисто отзывается он.
Я реально в шоке от того, что он мне ответил.
– С теми, кто тоже пытался тебя убить.
Всадник отворачивается от печи, в ледяных глазах пляшут отсветы огня.
– Я покончил с ними.
И я не вижу на его лице ни малейшего сожаления по поводу их смерти.
– Значит я у тебя первая жертва похищения? – уточняю я.
Он фыркает.
– Едва ли жертва, – говорит он. – Тебя я решил сохранить и сделать из тебя показательный пример. Возможно, тогда другие недоумки хорошенько задумаются, прежде чем захотят уничтожить меня.
Сейчас и только сейчас до меня доходит, в чем ужас моего положения.
Я не дам тебе умереть. Слишком быстро. Страдания созданы для живых. И поверь, я заставлю тебя страдать.
По спине бегут мурашки. Стертые до крови запястья и ноющие ноги, судя по всему, еще цветочки.
Худшее впереди, теперь я в этом уверена.