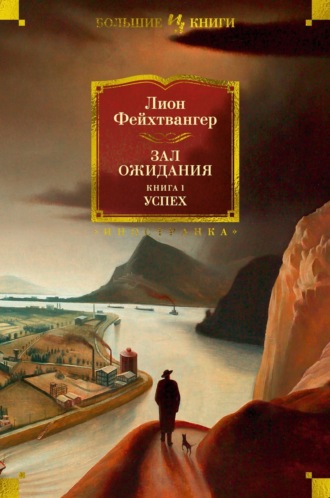
Лион Фейхтвангер
Зал ожидания. Книга 1. Успех
13. Голос из могилы и множество ушей
Газетные отчеты по поводу записок покойной девицы Гайдер отличались чрезвычайной красочностью. Оглашение этих записок называли «сенсационным моментом процесса». Ловкие репортеры бойким пером описывали, какое тяжелое впечатление на присутствующих произвело это жуткое загробное объяснение в любви, дошедшее до того, кому оно предназначалось, так поздно, в передаче секретаря суда, при ярком дневном свете и бесчисленных свидетелях, к тому же еще неся с собой угрозу тюремного заключения. Многие выдержки из дневника и писем приводились дословно, некоторые были отпечатаны жирным шрифтом.
Читали эти отчеты жители города Мюнхена: широкоплечие мужчины, круглоголовые, медлительные в движениях, в походке, в мышлении. Ухмылялись, наслаждаясь, до дна выпивали из серых глиняных кружек крепкое пиво, хлопали кельнерш по ляжкам. Читали эти отчеты старые женщины, приходя к убеждению, что в их времена такое бесстыдство было бы невозможно, и молодые девушки, тяжело дыша, чувствуя, как слабеют их колени. Читали эти отчеты и жители города Берлина, возвращаясь из контор и заводов, проезжая на империалах автобусов по горячему асфальту или притиснутые друг к другу в длинных вагонах метро, держась за ременные петли, усталые, размякшие, возбуждаясь странно наивными и бесстыдными словами умершей девушки и косясь на плечи, груди и шеи женщин, сильно открытые по моде того времени. Совсем еще молодые подростки читали этот отчет – четырнадцатилетние, пятнадцатилетние; завидовали получателю писем, досадовали на свою юность, возбужденно рисовали себе то время, когда и они будут получать такие послания.
Читал этот отчет и министр просвещения доктор Флаухер, сидя в своей низкой, заставленной старой плюшевой мебелью комнате. Это было больше, чем он мог ожидать. Он даже забубнил что-то вполголоса, так, что такса у его ног подняла голову. Читал и профессор Бальтазар фон Остернахер, видный художник, когда-то названный Крюгером «декоратором». Он улыбнулся, снова еще интенсивнее принялся за работу, хотя, собственно, собирался уже кончить на этот вечер. Оценку, данную ему Крюгером, он считал теперь окончательно опровергнутой. Читал отчет и доктор Лоренц Маттеи, лучший изобразитель баварских народных типов. Его мясистое, злое, мопсообразное лицо стало еще злее, еще краснее стали шрамы от сабельных ударов времен его студенчества. Он снял пенсне, скрывавшее маленькие, недобрые глазки, тщательно прочистил его, вторично, без особого удовольствия перечел отчет. Быть может, ему вспомнились кое-какие маскарады, в которых он участвовал еще молодым адвокатом, быть может, вспомнилась молодая женщина-фотограф, писавшая письма в таком же стиле, как покойная, и впоследствии бесследно куда-то канувшая. Верно одно – что он широко расселся за письменным столом и сочинил молодой художнице сочную, ядовитую надгробную надпись, нечто вроде тех «мартирологов», какие можно было видеть на памятных досках по краям дорог в баварских горах. Он откинулся назад, перечел стихи, увидел, что они удались. Существовал тончайший, написанный нервами анализ творчества Анны Элизабет Гайдер, принадлежавший перу Мартина Крюгера. Но его, Маттеи, стихи ближе к баварской природе, в них сила молотильных цепов. Он осклабился: стихи вытеснят анализ Крюгера, станут окончательной эпитафией умершей девушке.
Супруга придворного поставщика Дирмозера, прочтя отчет, почувствовала горькую обиду. Так, значит, для того чтобы ее муж мог присутствовать при чтении таких гадостей, ей приходится торчать в магазине на Терезиенштрассе, бросив на произвол судьбы маленького двухлетнего Пепи! Без ее мужа им, видно, никак не обойтись! Без него, верно, провалилось бы все баварское государство! Она долго ругалась, от времени до времени озабоченно заглядывая к маленькому Пепи, негоднику, не перестававшему орать, пока наконец, невзирая на запрещение врача, она, сжалившись, не влила ему в рот теплый напиток из пива и молока.
Полное, красивое лицо кассирши Ценци, когда она на работе в «Тиролер вейнштубе» прочла этот судебный отчет, стало задумчивым, как иногда в кино, и она на несколько минут поручила заботу о посетителях своей помощнице Рези. Ценци хорошо знала обвиняемого Крюгера. Красивый, веселый господин, иногда грубовато флиртовавший с ней. Напрасно печатали в газете все бредни, которые писала ему покойница. Это были неприличные письма, таких вещей писать не полагается. Все же некоторые выражения произвели на нее впечатление. Там, в большом зале, нередко сиживал молодой человек, некий Бенно Лехнер, сын антиквара Лехнера. Семейное положение: холост; профессия: электромонтер фирмы «Баварские автомобильные заводы». Но он, верно, недолго там удержится. Вообще он долго нигде не может удержаться: у него дерзкий, бунтарский нрав. Удивляться тут нечему: недаром он вечно торчит у этого «чужака», у этого противного Каспара Прекля. В тюрьме он тоже уже успел посидеть, этот Бени: проштрафился. Правда, по политическому делу – и все-таки тюрьма остается тюрьмой. Но несмотря на все эти недостатки, он очень ей нравился, и черт знает какое свинство, что он так мало внимания обращал на нее. Вот уж третий год, как ее произвели в старшие кельнерши, в кассирши и дали ей помощницу, Рези, которой она может командовать. Многие из посетителей большого зала и более дорогого – бокового – добивались возможности проводить с ней вечера в ее выходной день. Кавалеры из лучшего общества. Ей везло. Но кассирша Ценци берегла немногие свои свободные вечера для электромонтера Бенно Лехнера. А тот важничал, хоть и был всего-навсего сыном старьевщика Лехнера с Унтерангера, и заставлял долго просить себя, пока соглашался провести с ней вечер. Это был тяжелый крест. Зато у него была склонность к возвышенному, он был чувствителен к тонкостям, ко всяким фантазиям: возможно, что когда-нибудь удастся в письме к нему ввернуть один из оборотов покойной художницы. Ценци аккуратно вырезала газетный отчет, положила его в альбом для стихов, наряду с изречениями и стишками ее друзей и знакомых в изобилии содержавший сентенции и автографы наиболее значительных и популярных людей из числа посетителей «Тиролер вейнштубе».
Читал этот отчет, читал с легким отвращением и сознанием, что «иначе и быть не могло», и граф Ротенкамп, тот самый тихий господин, сидевший в своем горном замке далеко в юго-восточном уголке Баварии, часто ездивший в Рим, в Ватикан, и в Берхтесгаден к кронпринцу Максимилиану, самый богатый человек к югу от Дуная, бесшумный, боязливо сторонившийся всяких публичных выступлений и имевший огромное влияние на руководящую клерикальную партию. И сам кронпринц Максимилиан также читал отчет. Барон Рейндль, генеральный директор «Баварских автомобильных заводов», прозванный «Пятым евангелистом», благодаря своим связям с Рурским концерном – главный деятель баварской промышленности, также читал отчет. Он пробежал его без особого интереса. На мгновение у него мелькнула мысль позвонить главному редактору «Генеральанцейгера». Газета находилась в полной финансовой зависимости от Рейндля, и одного его слова было бы достаточно, чтобы судебный отчет получил совершенно иную окраску. Один из его инженеров, некий Каспар Прекль – смешной субъект, но способный, – в обычном для него дерзком тоне пытался просить барона вступиться за Крюгера. Возможно, что барон Рейндль действительно вступился бы. Но он помнил, что этот самый Крюгер однажды за его спиной назвал его «трехпфенниговым Медичи». Он, Рейндль, конечно, не был злопамятен, но уж во всяком случае он не был и «трехпфенниговым Медичи». Разве не его щедрость сделала возможным приобретение картины «Иосиф и его братья»? Со стороны Крюгера это было несколько смело, а главное – как оказалось теперь – непрактично. Барон Рейндль вторично внимательно проглядел отчет; его лицо выражало наслаждение знатока. В редакцию он не позвонил.
Прочли этот отчет и присяжный оптимист – писатель Пфистерер, экономка Агнеса, владелец картинной галереи Новодный. С восторгом прочел, гордясь своим героем-отцом, сын шофера, юноша Людвиг Ратценбергер. Но не прочел отчета самый могущественный из пяти фактических властителей Баварии, доктор Бихлер. Он был слеп. В это утро он сидел в одной из больших, низких, плохо проветренных комнат своего старинного нижнебаварского помещичьего дома, который много поколений подряд строили, чинили и все вновь и вновь расширяли. Он ворчал и бранился, плохо выбритый, с узловатыми, иссиня-красными руками. Какой-то тайный советник, посланный министерством земледелия, робко пытался привлечь его внимание к своим словам. Тут же рядом стоял и секретарь Бихлера, держа в руках газеты и готовясь начать чтение вслух. Тучный, неуклюжий человек возбужденно выкрикивал какие-то сердитые обрывки фраз. Секретарю показалось, что он слышит имя Крюгера, и он принялся читать отчет о процессе. Доктор Бихлер поднялся. Секретарь бросился помогать ему, но доктор Бихлер с досадой оттолкнул его и ощупью побрел по комнатам. За ним, добиваясь быть услышанными, следовали тайный советник и секретарь.
14. Свидетельница Крайн и ее память
Свидетельница Иоганна Крайн читала отчет, полуоткрыв рот, так что обнажились ее крепкие, здоровые зубы. Она наморщила лоб, обрамленный темными волосами, вопреки моде тех лет зачесанными назад и стянутыми тугим узлом на затылке. Энергичной походкой спортсменки, сердито выталкивая через нос воздух и похрустывая пальцами своих крепких, грубоватых рук, она прошлась несколько раз по комнате, тесной для ее широких движений, и остановилась у телефона. После нескольких бесплодных попыток она дозвонилась наконец до канцелярии адвоката Гейера и, как, впрочем, и ожидала, услышала, что его нет.
Ее лицо с несколько крупным ртом и решительными серыми глазами так исказилось от досады, что на мгновение стало почти некрасивым. Брезгливо морща губы, она еще раз перечла отчет. Газетный лист, еще жирный от краски, издавал скверный запах. Удушливая страстность, исходившая от слов умершей, даже помимо всего личного, вызывала в ней чувство отвращения. Мартину не следовало так много времени уделять этой Гайдер. Неужели не противно быть объектом таких писем?
Она ясно помнила эту Гайдер, помнила, как та вместе с ней и Мартином сидела за столиком в «Минерве», танцзале Латинского квартала, вся съежившись, посасывая соломинку своего коктейля, как потом во время танца, странно затуманенная, словно отдаваясь, она повисла на руке Мартина. Однажды Мартин спросил Иоганну, не согласится ли она сделать для этой девушки графологический анализ. Ее анализы – в то время она еще не занималась ими как профессией – пользовались большой популярностью в кругу ее знакомых. Но Гайдер поспешно, даже просто невежливо отклонила это предложение. Возможно, это был страх с ее стороны. Свойства людей переменчивы, как вода, – заявила она. В разных условиях и в своих отношениях с разными людьми человек бывает совершенно различным. Она ни за что не позволит закрепить за собой определенные качества.
Иоганна продолжала ходить взад и вперед по своей большой светлой комнате, убранной красивой практичной мебелью. Вокруг стояли полки книг и предметы, необходимые для ее профессии графолога, – огромный письменный стол и пишущая машинка. В зеркале она видела то светлый Изар, то бульвар, то широкую набережную. Да, эта дружба Мартина с покойной не могла окончиться добром. Она, Иоганна, должна была в свое время предостеречь Мартина. Наверно, и ему самому эта дружба давно была в тягость, но он всегда нуждался в толчке извне. Он старался избегать всего неприятного, старался и тут избежать сцен. Несомненно, это и было единственной причиной, по которой он не порвал с этой Гайдер.
Теперь уже не имело смысла огорчаться по этому поводу. Все это прошло и кончилось. Единственное, что оставалось делать сейчас, – это ждать, пока ей не удастся поговорить с адвокатом.
Разве не сегодня вечером обещала она дать анализ того женского почерка? Номер двести сорок семь? Да, да… Она сейчас же сядет за работу и через полчаса еще раз попытается созвониться с доктором Гейером. Она берет со стола газетный лист и аккуратно кладет его к уже прочитанным газетам. Вынимает образец почерка номер двести сорок семь, вставляет его в похожий на пульт для чтения аппарат, которым она обычно пользуется при своих анализах. Задергивает занавеси, включает лампу с рефлектором, и тогда линии написанных строк с почти пластической четкостью выделяются на светлом фоне бумаги. Она принимается расчленять линии почерка согласно остроумным методам, которым ее учили. Но она знает, что таким путем не создаст себе ясного представления о характере этого почерка. Да она и не делает настоящего усилия, чтобы сосредоточиться.
Нет, она вовсе не была обязана пытаться отдалить Мартина от этой Гайдер. Она не могла брать на себя обязанности гувернантки. Вообще глупо стремиться сделать человека иным, чем он есть. Раньше, чем связать себя с человеком, нужно хорошо уяснить себе, кто он такой. Жаль все же, что у Мартина невозможно было нащупать твердую основу. Лучше всего он чувствовал себя в полумраке. Тогда он бывал откровенен без всякой утайки. В своей откровенности он доходил до того, что ей почти бесстыдством казалась его способность первому встречному рассказывать самые интимные, личные вещи. И все же его можно было разобрать по листочкам, словно луковку, и при этом не докопаться до твердой основы. Всякое решение он по возможности откладывал, хотя бы дела запутывались бог весть как. Так или иначе – все, мол, разрешится само собой. Так стоит ли мучить себя поисками решения?
За дверью послышались тяжелые шаги ее тетки, Франциски Аметсридер, жившей вместе с ней и занимавшейся ее хозяйством. Тетка, наверно, сейчас не удержится от весьма решительных суждений по поводу процесса, от сильных выражений по адресу Мартина Крюгера. Обычно Иоганна не обижалась на делано резкий тон тетки, дружески в ответ подшучивала над ней к обоюдному удовольствию. Но сегодня она не была в настроении обмениваться с теткой суждениями и выражениями чувств. Четко и звонко сквозь закрытую дверь она объявила, что занята работой, и тетка, обиженная и рассерженная, ретировалась.
Она снова пытается сосредоточиться на своем графологическом анализе. Она обещала сдать сегодня его результаты, и ей не хочется заставлять кого-то ждать ее. Но сегодня у нее решительно ничего не получается.
Да, больше всего радости она и Мартин доставляли друг другу во время путешествий. Беззаботный, юношески веселый, отдавался он всем впечатлениям, бурно восторгаясь благоприятной погодой и глубоко огорчаясь из-за недостатков каждой чересчур примитивной гостиницы. Она вспоминала вечера, когда они вместе, сидя в вестибюле какого-нибудь большого отеля, по лицам посетителей определяли их характер, профессию, судьбу. Мартин сочинял самые увлекательные, самые интересные жизнеописания этих людей, улавливая мельчайшие, скрытые где-то в уголках их лиц, детали. Но в общем его характеристики очень часто оказывались ошибочными. Удивительно, как этот человек, столь глубоко умевший вникать в картины, так слабо на практике разбирался в психологии людей.
Как умел он углубляться во все, что касалось искусства! Наблюдать за тем, как он весь, целиком преображаясь, уходил в созерцание предметов искусства, – было прекрасно и радостно. Ей нравилась картина, она производила на нее впечатление. Но то, что человек, за минуту до того, казалось бы, безалаберный и капризный, вдруг мгновенно проникался благоговением, словно потушив в себе личное ради искусства, – вот это чудо вновь и вновь восхищало ее.
Доктор Гейер, вероятно, прав, считая, что ей лучше в эти дни не встречаться с ним. Но это дается ей нелегко. Ей хотелось бы погладить его по щеке, подергать за густые брови. Она и этот тщеславный, веселый, темпераментный, живой в восприятии искусства, щегольской в своей одежде человек – они подходили друг к другу.
Резким движением она поднялась, раскрыла жалюзи, отставила в сторону свою графологию. Немыслимо было сидеть вот так, в бездействии. Она снова позвонила Гейеру, в этот раз на квартиру. В аппарате послышался сиплый нервный голос экономки Агнесы. Нет, она не знает, где можно застать доктора Гейера. Но раз уж фрейлейн Крайн у аппарата, она очень просит ее хоть немножко заняться господином доктором. Ее, экономку, он вовсе не слушает. Прямо беда с этим человеком! Еду он просто проглатывает безо всякого внимания. Плохо спит. Совершенно не следит за своей одеждой. Просто срам! У него ведь никого нет из близких. Если фрейлейн Крайн скажет ему, – может быть, это подействует.
Иоганна нетерпеливо ответила полусогласием. Все люди чего-то требовали от нее. У нее – видит бог – есть другие заботы, кроме платья доктора Гейера.
Но всегда, с самого ее детства бывало именно так. Уже тогда, после развода родителей, когда ее, еще полуребенка, перебрасывали от одного из родителей к другому. Отец, погруженный в работу, замкнутый, ждал от нее, что она, несмотря на его нерегулярный образ жизни, сумеет держать в порядке хозяйство, и устраивал скандалы, когда что-нибудь случайно не ладилось. Еще подростком она принуждена была заботиться о новом кредите у поставщиков, об удобствах для неожиданно появлявшихся гостей, должна была вести хозяйство применительно к постоянно менявшемуся финансовому положению отца. Когда она жила у матери, ей приходилось исполнять все тяжелые и неприятные обязанности, так как мать, обожавшая болтовню и сплетни с приятельницами за чашкой кофе, оставляла за собой право на сетования, предоставляя всю работу дочери. Позднее, когда после смерти отца она окончательно поссорилась с матерью, вышедшей вторично замуж, все ее знакомые, даже отдаленные, всегда считали своим правом пользоваться ее услугами и любезностью и в самых неожиданных случаях обращались к ней за помощью и советом.
То, что именно здесь, где она действительно была нужна, то, что она в деле Крюгера оказалась бессильной, – злило ее сейчас до бешенства. Теперь она знала, что совершила ошибку, своевременно энергично не позаботившись о нем. Ее теория о необходимости полной самостоятельности каждого человека, нарушать которую без просьбы другого нельзя, была чересчур удобной отговоркой. Когда связываешь себя с человеком, как она с Мартином, зная, что он собою представляет, надо принять на себя и ответственность за него.
Опираясь подбородком на короткую грубоватую руку, Иоганна сидела за столом, вспоминая Мартина тех дней и часов, которые вызывали в ней наибольшее восхищение. Вспоминала, например, как однажды они вместе были в маленьком медлительном городке со старинной чудесной картинной галереей, которую Мартин собирался опустошить в пользу Мюнхенского музея. С каким превосходством и убедительностью обошел он недоверчивых провинциальных ученых, навязав им всякую старую мазню, от которой ему хотелось освободить свой Мюнхенский музей, и выманив у них своей болтовней лучшие вещи из их собрания! Когда затем, после длительных переговоров, трудный обмен был окончательно решен, Мартин имел еще дерзость, ей и себе на потеху, поставить условие, чтобы магистрат достойным образом отблагодарил его за труды по пополнению городской галереи и устроил в его честь банкет. Она сидела, опираясь подбородком на руку, склонив здоровое лицо свое с коротким тупым носом. Она ясно видела перед собой лицо Мартина, с лукавой серьезностью слушающего тягучую заздравную речь, произносимую в его честь бургомистром.
Затем вдруг она оказывалась с Мартином в Тироле. Рядом с ними в купе сидел педантичный англосакс, уткнувшийся носом в путеводитель, близоруко ворочавший головой из стороны в сторону и никак не умевший разобраться, с какой, собственно, стороны находятся те или иные упомянутые в путеводителе красоты природы. Мартин все время, к великому удовольствию пассажиров, с самым серьезным видом снабжал чудака неверными сведениями, остроумно и находчиво устраняя все его сомнения, незначительные холмики выдавая ему за знаменитые горные вершины, крестьянские дворы – за развалины замка. А раз, когда поезд проезжал какой-то городок, он даже уверил бедного иностранца, что колонна со статуей мадонны – памятник национальному герою.
Все до мелочей помнила она. О да, она умела все вспоминать до мелочей. Уважать старые традиции – святость присяги, ответственность перед обществом и тому подобное – все это прекрасно. Но она сыта уже этим по горло и намерена ссылаться на свою хорошую память. Она точно помнит – это было в два часа ночи, – когда Мартин в ту ночь пришел к ней. Почему она помнит это с такой точностью? Да потому, что они первоначально сговорились на следующий день совершить прогулку в горы. Но Мартин настоял на том, чтобы отправиться на вечеринку. Они поссорились по этому поводу. Затем Мартин все же неожиданно явился к ней. Разбудил ее. Разве не вполне естественно, что она взглянула на часы и точно запомнила время? Да, так оно и было; так оно звучит вполне правдоподобно. Если у шофера Ратценбергера есть все основания иметь хорошую память, то и у нее есть не менее ценные основания для того же самого. Да, именно так все и происходило. Так она будет показывать под присягой, и чем скорее, тем лучше.
Она не знает, спал ли Мартин с умершей девушкой. Она этому не верит; она никогда не говорила с ним об этом, это ее не интересует. Но одно она знает, это подсказывает ей человеческий здравый смысл: нехорошо, чтобы человек пробыл больше одной ночи под тяжестью таких обвинений, как те, которые вытекают из писем и дневников Гайдер. Она начнет действовать. Изыщет способ противодействовать. Опровергнет, опираясь на неоспоримые доказательства.
Она снова позвонила, застала доктора Гейера дома. Сказала ему быстро и решительно, что она снова проверила свои воспоминания, помнит сейчас все, во всех подробностях. Хочет дать показания. Завтра. Возможно скорее. Доктор Гейер ответил, что по телефону говорить об этом не считает удобным и будет ждать ее у себя через час.
Через час. Она пойдет пешком. Но даже и так у нее до ухода остается достаточно времени.
Если она не может увидеть Мартина, то у нее есть хоть его письма. Она подошла к шкатулке, где они лежали, – множество писем из разных городов, проникнутых разным настроением, написанных при различных обстоятельствах. Мартин писал легко и не задумываясь, как мало кто в то загруженное делами время. Письма были совсем разные. Одни – деловые, сухие, другие – полные молодого лукавства, самых неожиданных остроумных выходок. Затем вдруг длинные, импульсивные рассуждения о картинах, о вопросах его специальности, – все это без всякого отбора, полное противоречий.
Да, вот лежали его письма, сложенные в порядке, тщательно сохранявшиеся. Не попадут ли и его письма в одну из ее папок? – спросил однажды Мартин, подшучивая над ее страстью к порядку. Она вынула один из листков, взглянула на быстрый, крупный, странно нежный почерк. Но очень скоро отвела взгляд решительных серых глаз. Положила листок на место.
В своем неуютном кабинете доктор Гейер сухо указал ей, что ее хорошая память в этой стране довольно опасная вещь. Гораздо вероятнее, что привлекут к ответственности за лжеприсягу ее, чем шофера Ратценбергера. Лицо Иоганны оставалось спокойным. Над переносицей прорезались три бороздки. Зачем он все это говорит ей? – спросила она Гейера. – Неужели он полагает, что это производит на нее впечатление? – Он считает себя обязанным указать ей на возможные последствия ее выступления, – ответил он сухо. Она, так же сухо, поблагодарила его за добрые намерения. И ушла, улыбаясь.
Улыбаясь, направилась она кружным путем, через Английский сад, домой. Шла, напевая сквозь зубы, почти неслышно, мелодию из старинной оперы, повторяя все те же несколько тактов. Прекрасный, обширный парк замер в вечерней прохладе и покое. Кругом бродило много влюбленных парочек. Пожилые люди также, после раннего ужина, наслаждались здесь вечерней прохладой. Они сидели на скамейках, болтали, курили, спокойно читали подробные газетные отчеты о любви покойной «чужачки» к Мартину Крюгеру.







