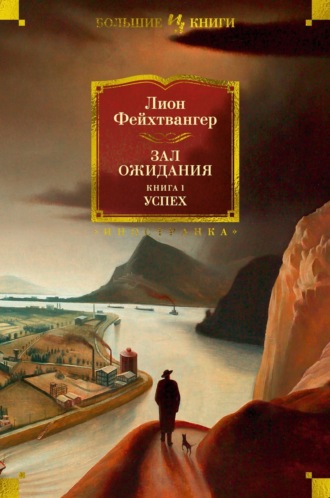
Лион Фейхтвангер
Зал ожидания. Книга 1. Успех
6. Нужны законные основания
Некто Георг Дурнбахер обратился к Иоганне Крайн с просьбой произвести графологический анализ одного почерка. Иоганне этот господин показался несимпатичным. Она отказалась, сославшись на перегрузку работой. Г-н Дурнбахер настаивал. В конце концов Иоганна согласилась и составила характеристику. В осторожных выражениях она упомянула об отрицательных качествах, усмотренных ею из образца почерка, и определила писавшего как человека с чрезмерно изощренным воображением, склонного обманывать не только других, но и самого себя.
Как выяснилось затем, просьба о составлении характеристики исходила от правительственного советника Тухера. Пламенно преданный старому режиму и, следовательно, противник Крюгера и Иоганны Крайн, он и характеристику заказал не для того, чтобы действительно проанализировать свой почерк, а в целях проверки знаний Иоганны Крайн. Результат анализа, в вежливой форме характеризовавший крупного государственного чиновника как мошенника, убедил его в том, что так называемое искусство Иоганны не что иное, как шарлатанство. Советник счел необходимым возбудить против Иоганны дело о шарлатанстве. Статьи, соответствующей такому преступлению, в германском законодательстве не было. Тем не менее баварская полиция оставляла за собой право возбуждать преследование за поступки, обозначаемые этим термином. Таким образом против Иоганны было возбуждено дело о шарлатанстве, и ей, впредь до решения суда, запрещено было заниматься графологической работой.
Доктор Гейер, когда Иоганна рассказала ему о случившемся, отнесся к ее рассказу вяло, без видимого интереса. Не раз во время беседы он снимал очки, щурился, закрывал глаза. Это дело, объяснил он, как и все, относящееся к ней и Мартину Крюгеру, давно уже из области юстиции перешло в область политики. Поэтому для разрешения этих вопросов остаются лишь те пути светских связей, о которых он ей говорил. Впрочем, он не предполагает, что ее всерьез решили преследовать. Это только предостережение: ей хотят показать, что имеют против нее оружие на тот случай, если она не будет вести себя достаточно тихо. Если она будет хорохориться, то вместо пустякового дела о шарлатанстве могут возбудить дело о лжесвидетельстве. В пределах, на которые распространяется власть доктора Кленка, этого бессовестного насильника (лицо Гейера болезненно передернулось), нет ничего невозможного!
– Остаются, следовательно, одни «светские связи», – задумчиво резюмировала Иоганна.
Она давно уже знала наизусть список из пяти имен, составленный для нее Гейером во время его болезни. Но люди из этого списка, их лица, знакомые ей по портретам, их жизнь, их среда – все это было недосягаемо для нее. Она не знала, как взяться за это дело. И только в памяти ее каждый раз снова и снова всплывало лицо присяжного Гессрейтера.
Доктор Гейер молчал. Он вновь, но на этот раз почти с досадой почувствовал сходство между этой высокой девушкой и той, давно умершей.
– Да, – произнес он наконец, – светские связи. Довольно расплывчатый совет. Но другого дать вам не могу.
Иоганна злилась на доктора Гейера. Ей говорили, что лучшего адвоката для ее дела не найти. Но она находила его вялым, нерешительным. Она поднялась. Большая, крепкая, стояла она перед доктором Гейером, глядя на его слегка искаженное нервной гримасой лицо и рассказывая о препятствиях, которые ей чинят. Посылки Крюгеру возвращаются назад или передаются ему, когда содержимое их успевает испортиться. Разрешение видеть его она получает лишь с бесконечными трудностями. Каждый раз ее спрашивают, на каком основании она оказывает ему поддержку.
– Да, на каком основании? – хмуро улыбаясь, переспросил адвокат. – Быть может, просто по праву человеколюбия или вашей дружбы с Крюгером? Таких оснований для баварских властей недостаточно. Связь между мужчиной и женщиной, для того чтобы быть признанной властями, должна быть узаконена в отделе записи браков.
Иоганна закусила верхнюю губу. Тонкая насмешка адвоката задела ее. Его поза, жидкая рыжеватая борода, манера щурить глаза – все это раздражало ее.
– Я обвенчаюсь с ним, – сказала она наконец.
Помолчав, адвокат заметил, что для этого придется преодолеть ряд трудностей. Точных сведений о необходимых формальностях и о тех препятствиях, которые могут ей встретиться на пути, у него нет. Иоганна попросила его немедленно и с максимальной энергией предпринять все необходимое.
Оставшись один, Гейер откинулся на спинку стула. Красноватые веки его были опущены. Еще резче обозначилась неприятная улыбка, обнажив крепкие желтоватые зубы. Правда, он убедил самого себя в том, что все, касавшееся Эриха, раз и навсегда зачеркнуто, ликвидировано. Но оно не было ликвидировано, и, возможно, было бы лучше, если бы он сказал следователю о том злосчастном лице, которое на долю секунды мелькнуло перед ним тогда, когда его ударили и он упал.
Адвокат доктор Гейер за последнее время изменился. Он меньше старался владеть своими нервами, давал волю своему раздраженному, полному иронии красноречию. Все заботы о пище, квартире, даже заботу о своих денежных делах он предоставил экономке Агнесе. Временами его охватывала страшная усталость. Тогда он сидел с потухшим взором, весь опустившись. Но обычно такие приступы быстро проходили. Тогда он снова заговаривал о том, что следовало бы бросить практику, пожалуй даже и парламентскую деятельность, и ограничиться впредь лишь литературной работой.
Последствия ли нападения так повлияли на доктора Гейера? Нет, ведь он и раньше знал, что его деятельность не безопасна, и ожидал даже худшего. То, что вызвало в нем такую перемену, должно быть, таилось глубже. Это было новое откровение, следствие внезапно брошенного взгляда.
Это был взгляд в доверчивые глаза доктора Кленка, взгляд на его мощный жующий рот. Это был взгляд в душу грубо обнаженного насилия, и он произвел на доктора Гейера потрясающее впечатление. После той беседы он надолго замкнулся в себе, и его бдительный взор погас. Он проверял, подводил итоги и убеждался, что строил на песке. Правда, он давно знал о таком положении вещей, произносил на эту тему речи, высказывал по этому поводу остроумные, глубокие мысли. Но видеть беззаконие собственными глазами ему пришлось теперь впервые. Теперь он понял: какое дело ему до Крюгера, какое дело ему до часовщика Трибшенера? Все триста случаев, приведенных в его книге «История беззаконий в Баварии», как бы четко, ясно и понятно даже для глупцов ни были они отпрепарированы, не имели никакого значения. Такими простыми средствами нельзя было подорвать «национальную юстицию» доктора Кленка.
Он, Зигберт Гейер, должен бороться тем же оружием, что и Кленк. Он тоже не будет больше интересоваться судьбой отдельной личности. Сентиментальностью было с его стороны стремление помочь отдельному человеку. Самому беззаконию попытается он нанести удар.
В глубине души он знал: поедет ли он в Берлин или даже в Москву во имя своих идей – символом насилия и беззакония для него лично навсегда останется один образ: маленькие, самодовольные глазки на грубом красновато-смуглом лице, крепкий жующий рот и суконная куртка.
Адвокат весь съежился в своем неуютном кресле. Наконец усилием воли овладел собой. Кряхтя, достал связку бумаг: «История беззаконий в Баварии от заключения перемирия 1918 года до наших дней. Случай № 237».
7. Господин Гессрейтер ужинает в Мюнхене
Иоганна Крайн стояла на трамвайной остановке в ожидании голубого вагона, который должен был отвезти ее в Швабинг, к г-ну Гессрейтеру. Был туманный и прохладный вечер. В витрине магазина она при свете дуговых фонарей увидела свое отражение: вопреки моде, почти не напудренное и совсем не накрашенное лицо.
Кто-то прошел мимо, поклонился вежливо, безучастно. Иоганна не могла вспомнить хорошенько имя. Это было лицо, какое в те времена носили многие представители господствующего класса, – умное, под широким лбом чуть-чуть сонные, осторожные глаза. Лицо, знавшее, как подвержены моде все суждения в эту эпоху, как они неустойчивы. Носители таких лиц, даже если считали дело Крюгера достойным жалости и гнева, отказывались тем не менее от гнева и жалости, ибо таких дел ведь встречается слишком много. Иоганна это знала, она знала свет и жизнь, но понять этого не могла. Потому что сама она, как ни будничным становилось горе, навлекаемое на людей политизированной юстицией тех лет, ощущала его не менее остро. Возмущалась, все вновь и вновь вступала в бой.
Подошел нужный ей трамвай. Она уселась в уголок, машинально предъявила кондуктору билет, задумалась. Хотя Гессрейтер и не принадлежал непосредственно к тем пяти «могущественным», которые могли извлечь Мартина из тюремной камеры, все же он был подходящим для ее дела человеком. Разве, когда в минуты упадка духа она мысленно перебирала своих многочисленных знакомых, перед ней не всплывало всегда его лицо? То лицо, которое она увидела во время своих мучительных показаний в большом, переполненном зале суда. Удивленное лицо, даже несколько глупое от удивления. Но затем все же на этом лице раскрылся маленький плотоядный рот и оградил ее от грязного вопроса прокурора.
Да, она поступила правильно, позвонив ему по телефону и приняв без церемоний его нерешительное приглашение поужинать у него. Сейчас, сидя в углу вагона, она испытывала некоторое волнение. Ужин у этого странного г-на Гессрейтера был для нее чем-то вроде дебюта, вступления на новый для нее путь. До сих пор, встречаясь с людьми, она говорила с ними на деловые, специальные темы или разговаривала просто ради удовольствия. Теперь она стояла перед необходимостью так, здорово живешь, потребовать чего-то от совершенно чужого человека. Рано привыкшая к самостоятельности, она не любила признаваться, что не может одна справиться с каким-нибудь делом. Неприятной штукой были эти самые светские связи. Как же они создавались? Как можно было не платить услугой за услугу? Она пускалась в путь с целью создания этих связей, словно в неведомую страну в погоне за приключениями.
Мартин Крюгер нередко говорил, что она дурно воспитана. Это было, пожалуй, довольно правильно. Она вызвала в памяти беспорядочный уклад жизни в доме отца, у которого провела большую часть юности. Скорее она, видит бог, воспитывала этого вспыльчивого, высокоодаренного человека, чем он ее. Занятый, вопреки здравому смыслу, воплощением в жизнь идей и планов, для которых время еще не назрело, он не находил досуга для таких второстепенных вещей, как хорошие манеры. А мать… Господи боже мой! Ленивая, интересующаяся только мещанскими сплетнями, она время от времени делала вдруг судорожные попытки привить Иоганне собственные, ею самою придуманные манеры, чтобы затем так же быстро отказаться от них. Только на пользу воспитанию Иоганны послужил поздний второй брак матери с владельцем колбасной Ледерером, давший Иоганне повод окончательно порвать с ней. С ужасом вспоминала она, как жила эта стареющая женщина, вспоминала ее вечные знакомства с бесчисленными любительницами сплетен, ее склоки, ее праздность, ее «дела», ее жалобы. Нет, многому у нее научиться нельзя было. О воспитании тут трудно было говорить.
Иоганна поглядела на ногти своей широкой, грубоватой руки. Ногти были не очень-то холеные. Однажды она предоставила с большой неохотой свои руки в распоряжение маникюрши. Ей было противно позволить постороннему человеку подрезать, подтачивать, красить ее ногти. Все же им не следовало быть такими грубыми и четырехугольными.
Она доехала до нужной ей остановки, прошла еще несколько минут пешком по плохо освещенным улицам. Но вот и дом г-на Гессрейтера, укрывшийся за каменной оградой и старыми каштанами на краю Английского сада. Низкий старомодный дом, должно быть построенный каким-нибудь придворным в конце восемнадцатого века. Слуга провел ее по запутанным коридорам. Подчеркнуто старомодный в смысле архитектуры, дом в то же время был снабжен всеми современными удобствами. Своеобразное здание показалось Иоганне немного странным и в то же время приятным.
Г-н Гессрейтер встретил гостью сердечно и многословно, крепко пожимая ей руки. У себя дома он казался еще представительнее и изящнее. Он подходил к своему дому, как рак к своей скорлупе. Этот человек с мясистым лицом, лукаво и томно глядя на нее карими глазами, сообщил, что у него есть для нее сюрприз. Но прежде всего нужно поужинать.
Он непринужденно болтал, вплетая в свою речь дурашливые, любезные шутки. Он говорил на том же диалекте, что и она, употреблял те же слова. Они хорошо понимали друг друга. Он рассказывал о своем керамическом заводе и о том, что он не вполне удовлетворен им. Прекрасно было бы производить одни лишь предметы искусства. Но люди не хотят этого, не дают человеку проявить свою волю. Вообще слава Мюнхена как города искусств – сплошное надувательство. Как, например, они опять обезобразили Галерею полководцев! Он все время жаждал узнать, что скрывается за лесами, заслонявшими заднюю стену. Теперь все открылось: ее убрали отвратительными желтыми жестяными щитами, украшенными железными крестами, – на каждую «утраченную во время войны область» по щиту. А на щиты навесили пестрые венки. Словно мало им было изуродовать прекрасное строение важно выступающими львами и Памятником армии! Он добрый мюнхенец, но с этим варварством он не может согласиться. Сейчас, например, он носится с планом – хотя в деловом отношении это никаких выгод не сулит – организовать на своем заводе выпуск ряда очень оригинальных вещей работы молодого, никому еще неведомого скульптора. В числе других – серию «Бой быков». Несколько позднее он в разговоре коснулся и процесса Крюгера. Оказалось, что во время процесса он уловил и тщательно запомнил ряд мелких, не замеченных ею черточек, которые теперь мог привести ей, словно демонстрируя их сквозь увеличительное стекло.
В конце ужина, составленного г-ном Гессрейтером с умением знатока, хозяина срочно вызвали к телефону. Он вернулся несколько смущенный. Одна милая и пользующаяся его большим уважением приятельница, как сообщил он Иоганне, предполагает еще сегодня приехать к нему с компанией друзей. Этой даме, проводящей сейчас большую часть времени в своем поместье на берегу Штарнбергского озера, он обещал сюрприз – тот же самый, что и Иоганне. Зовут эту даму – г-жа фон Радольная. Он надеется, что фрейлейн Крайн ничего не будет иметь против этих новых гостей. Иоганна, не колеблясь, ответила, что охотно готова остаться. Она поглядела на г-на Гессрейтера, нашла, что наступило время подойти к цели, не стесняясь рассказала ему о своем намерении завязать и использовать светские связи. Г-н Гессрейтер, сразу увлекшись, замахал руками, словно загребая ими воздух. Светские связи? Замечательно! Для этого он самый подходящий человек! Он рад, что она пришла к нему. Очень удачно, что он сейчас может познакомить ее с г-жой фон Радольной. Дело Крюгера находится в таком положении, при котором можно всем сердцем и умом принять в нем участие. Оно, если можно так выразиться, из области политической игры перешло в область человеческую.
Он все еще рассуждал на эту тему, когда появилась г-жа фон Радольная со своей компанией. Пышная, спокойная, уверенная в себе, она словно заполнила собой комнату. Без сомнения, она всегда и всюду сразу оказывалась неоспоримым центром внимания. То, как она несколько холодно, не стесняясь, испытующе оглядела Иоганну, не показалось девушке обидным. Катарина со своей стороны, с удовольствием отметив впечатление, произведенное ею на Иоганну, осталась довольна и уселась около нее. Она знала, как тяжело было завоевать себе место в этом большом и опасном мире. Она вышла из низов, создала себе положение, чувствовала себя уверенно, но далось ей это нелегко, и до сих пор она всегда радовалась, если смелая женщина не давала сломить себя. Она, разумеется, всей душой и безоговорочно сочувствовала методам, применяемым господствующим классом. Однако, завоевав себе положение, она умела, сталкиваясь непосредственно с частным случаем, проявлять терпимость с такой же простотой и естественностью, с какой была нетерпима, когда дело касалось общих положений. С интересом и полным пониманием слушала она историю трудного детства Иоганны, ее разрыва с матерью, ее работы, ее связи с Мартином Крюгером. Обе женщины – широколицая, с решительными серыми глазами, и пышная, с медно-красными волосами и сытым, многоопытным взглядом, – казались такими дружными, так медлительно и уверенно обменивались произносимыми протяжно, по-баварски словами, что склонный к оптимизму Гессрейтер уже не сомневался в конечном успехе Иоганны.
Постепенно, не упуская при этом ни одного слова г-жи фон Радольной, Иоганна присматривалась и к остальным гостям. Человек с добродушным, изрезанным жесткими складками лицом, походивший на крестьянина в смокинге, – это, значит, и есть художник Грейдерер. Испещренная рубцами, мопсообразная физиономия писателя Маттеи была ей знакома по иллюстрированным журналам. Розовощекий господин в пенсне, с седеющей бородой, – конечно, доктор Пфистерер, также писатель, а старик, с азартом в чем-то убеждавший его, – тайный советник, профессор Каленеггер. Хотя и склонный иногда к другим выводам, Пфистерер слушал его внимательно, почти благоговейно. Чрезвычайно интересно было наблюдать, как тайный советник все законы естествознания сводил исключительно к истории города Мюнхена, с маниакальным упорством отказываясь признавать значение таких фактов, как самодурство коронованных особ, рост транспорта, изменения в области хозяйства. Семь основных биологических принципов установил он, семь основных типов, на свойстве которых он строил историю города Мюнхена. Иоганна все вновь и вновь поглядывала в сторону сухощавого старика с огромным горбатым носом, извлекавшего с напряжением, из самой глубины горла закругленные, готовые к печати фразы.
Каленеггер как-то внезапно умолк. В комнате неожиданно стало совсем тихо. Среди общего молчания г-н Гессрейтер заявил, что теперь он наконец покажет им обещанный сюрприз, повел сгорающих от любопытства гостей в небольшой, увешанный картинами кабинет и зажег там свет. На одной из ровных серых стен, среди немногих других картин, гости увидели автопортрет Анны Элизабет Гайдер. Рассеянный и в то же время напряженный взгляд умершей девушки был устремлен в продуманно и красиво освещенную комнату, на картину, висевшую на противоположной стене, в сочных тонах изображавшую верхнебаварский крестьянский дом. Не слишком стройная шея была как-то трогательно-беспомощно вытянута. Груди и бедра расплывались в беловатом нежном тумане.
Охваченная двойственным волнением, стояла Иоганна перед портретом. Вот она, эта картина, причина стольких осложнений, всегда вызывавшая в ней неприязненное чувство. Спокойная, наивная и отталкивающая, висела она на стене. Стоявший около картины г-н Гессрейтер с добродушной и торжествующей улыбкой указывал на свое приобретение. Что, собственно, хотел доказать этот странный человек? Для чего он приобрел эту картину? Зачем он показывал ее сейчас? Иоганна переводила вопросительный взгляд с картины на г-на Гессрейтера и с г-на Гессрейтера опять на картину. Она размышляла торопливо и напряженно, но не могла прийти к определенному выводу. Долго молча стояла она перед портретом. Остальные гости тоже были смущены. Г-жа фон Радольная, подняв брови, глядела на вызвавшее столько шума и разговоров полотно. Она умела чувствовать искусство и отнюдь не была склонна безоговорочно подчиняться мнению газет. Но от портрета веяло чем-то неприличным, запретным – это было неоспоримо! У нее на такие вещи было безошибочное чутье. Несмотря на это, или, может быть, именно поэтому, картина представляла собой значительную ценность. Но следовало ли человеку с таким видным положением в мюнхенском обществе, как Пауль, именно сейчас приобретать такую картину? Это вызовет неудовольствие. Точно он специально хотел сказать: «а все-таки» или «именно поэтому»! Точка зрения, понятная ей, как баварке, но не вызывающая в ней сочувствия.
Заговорил только Грейдерер. Он громко и грубовато-доброжелательно отозвался о картине. Старик Каленеггер безучастно сидел в своем кресле. Это не относилось к его специальности. Он сразу словно погас, казался бесконечно старым, почти древним. Равнодушное, лишенное настоящего понимания одобрение г-на Пфистерера не вылилось в слова. В конце концов умолк и художник Грейдерер. Около минуты длилось молчание. Слышно было только тяжелое дыхание обоих писателей. Все несколько возбужденно искоса поглядывали на Иоганну Крайн, смутно ощущая, что в самом факте присутствия девушки в этом кабинете, перед этим портретом таится какая-то скользкая двусмысленность. С полного лица г-на Гессрейтера медленно исчезало выражение добродушной гордости. Его щеки обвисли, создавая впечатление беспомощности.
Внезапно среди царившей в комнате тишины раздался злобный, ворчливый голос доктора Маттеи. Все это черт знает какая пакость, – заявил он. Даже и противники, по его словам, не осмеливаются отрицать способностей баварцев в области изобразительных искусств. Баварское барокко, баварское рококо, мюнхенская школа ваятелей, возглавляемая вейльгеймцем Крумпером. Готика Иерга Гангхофера или Мелескирхнера. Братья Азам. А также – разумеется! – классика эпохи Людвига I. Это законченно, прилично, исконно. А поверх всего этого теперь готовы посадить этакий вздор, этакую дрянь. Черт знает какая пакость!
Все чувствовали, что эти грубые слова вырываются прямо из глубины души доктора Маттеи. Все присутствовавшие баварцы понимали таившуюся в этих словах любовь писателя, из уст которого они привыкли слышать только желчные выпады, к его, к их родному краю. После своей вспышки писатель Маттеи с некоторым смущением, но злобно и упрямо уставился в пространство. Писатель Пфистерер покачал головой, успокоительно приговаривая: «Ну, ну». Г-н Гессрейтер в мучительной растерянности поглаживал выхоленные бакенбарды. Он подумал о предметах, производимых его керамическим заводом; о бородатых гномах и гигантских мухоморах, особенно охотно выпускаемых его мастерскими. Он натянуто улыбнулся, делая вид, что принимает злые слова доктора Маттеи за остроумную шутку.
Всем было приятно, когда в это тягостное мгновение в комнату вошел г-н Пфаундлер. Этот крупнейший представитель «увеселительной промышленности» был приглашен сюда г-жой фон Радольной. Он привез с собой также русскую даму, о которой уже несколько месяцев кричал на всех перекрестках. Он представил ее присутствующим: Ольга Инсарова. И произнес это имя так, словно оно было известно на всем земном шаре. Дама оказалась просто худенькой, хрупкой женщиной с подвижным лицом, приятными, несколько искусственными движениями и скользящим взглядом слегка раскосых глаз. Доктор Маттеи сразу же обратил на нее свое благосклонное внимание, заявив, что живая танцовщица ему милей мертвой художницы, и все, вздохнув с облегчением, вернулись в библиотеку.
Иоганна с удивлением увидела, с какой безудержной жадностью доктор Маттеи завладел русской танцовщицей. Неуклюжему человеку с грубым, исполосованным шрамами лицом нелегко было противостоять гибкому юмору маленькой женщины, которая ловко ставила его в тупик и много смеялась, показывая влажные мелкие зубы. Миловидная молодая особа обнаруживала втрое больше остроумия, чем он, и безжалостно издевалась над своим собеседником.
– Ну теперь Маттеи – конец! – добродушно констатировал Пфистерер.
Г-жа фон Радольная и Иоганна уже не разговаривали. Все наблюдали за беспомощными попытками доктора Маттеи парировать сыпавшиеся на него удары. Тот попытался увильнуть, перевести разговор в более привычную для него плоскость, неожиданно накинулся на Пфистерера, сделав резкий и убедительный выпад против розового оптимизма популярного писателя. Постарался задеть его за живое. Пфистерер, снискавший себе большую славу, никогда не мог понять, почему некоторые литераторы, чьи таланты он признавал всей душой, никак не хотели считаться с его солнечным миросозерцанием, и добродушного человека это мучило, кололо в самое сердце. Почему ему отказывали в праве нести в народ свои утверждающие жизнь рассказы, доставлять свет и радость всюду – от королевского дворца до шалаша углекопа? Он старался понять своих противников, уяснить себе их точку зрения. Но прямота и честность были здесь не к месту. Грубость, с которой доктор Маттеи нападал на него, граничила с подлостью. Его лицо налилось кровью. Крепкие, плотные, стояли друг против друга оба писателя, рыча, словно разъяренные звери. Инсарова улыбалась, с любопытством, чуть насмешливо, с мальчишеским озорством облизывала язычком уголки губ. Но Иоганна со свойственной ей ровной сдержанностью вступилась за Пфистерера, и он быстро овладел собой. Его возмущение превратилось в грусть. Энергично тряся золотистой кудрявой головой, протирая запотевшие стекла пенсне, он стал жаловаться на злобные, разрушительные инстинкты некоторых людей.
В то время как Маттеи снова обернулся к подвижной русской танцовщице и с явным удовольствием уставился на нее своими крохотными, злобными глазками, Пфистерер подсел к Иоганне Крайн. Эта крепкая, добрая баварская девушка походила на героев его книг – такая же жизнерадостная, сердечная. Иоганна тоже чувствовала себя с ним приятно. Реальная жизнь, конечно, была совсем иной, чем в его книгах, и без золотого обреза. Но Иоганне было понятно, что многие люди заполняли свой досуг такими книгами, что горы казались им такими же лакированными, а горцы – такими же суровыми и честными, какими они казались Пфистереру. Она и сама не раз с удовольствием читала романы Пфистерера. Несомненно, он пользовался влиянием, к нему благоволили при всех германских дворах. Он, наверно, мог быть ей полезен. Она заговорила с ним о деле Крюгера. Постаралась разъяснить ему, осторожно, по возможности все смягчая, что здесь имел место произвол. Он, ничего не понимая, тряс своей большой золотистой головой. Он был поклонником старых, устойчивых форм; глубоко сожалел о революции. Слава богу, его родные баварцы были на правильном пути восстановления старого порядка. Немножко доброй воли – и все образуется к общему удовольствию. Тому, что она рассказывает о какой-то печальной судебной ошибке, он – пусть она не сердится – с трудом может поверить. Он был очень любезен, полон сочувствия, задумчиво покачивал лохматой головой. Не следует так вот сразу объявлять своего ближнего негодяем. Недоразумения. Ошибки. Он займется этим делом. Прежде всего обсудит эту историю с кронпринцем Максимилианом, с этим чудесным, великодушнейшим человеком.
Г-н Пфаундлер рассказал, что кронпринц зимой проведет некоторое время в Гармиш-Партенкирхене. Все едут в Гармиш. Агитация, проведенная им, Пфаундлером, в пользу этого курорта, приносит плоды. Увеселительное заведение «Пудреница», которое он собирается там открыть, не оставляет желать лучшего. Художники – господин Грейдерер и молодой автор скульптурной серии «Бой быков» – превзошли самих себя. Изящество восемнадцатого века – и при этом уютно! Облицовочные плитки с керамического завода господина Гессрейтера – прямо изумительны! Впервые в Германии в «Пудренице» выступит Инсарова. Г-н Пфаундлер говорил тягуче, негромко, но мышиные глазки под шишковатым лбом поблескивали такой фанатической убежденностью, что это придавало особенную силу его словам. Назвав имя танцовщицы, он поклонился ей – слегка, небрежно, по-хозяйски беззастенчиво, отчего ее лицо мгновенно утратило свою озорную живость, побледнело и потускнело. Да, – закончил Пфаундлер, – Гармиш в эту зиму будет европейским центром.
Иоганна подумала, что и в ее интересах, вероятно, было бы отправиться в Гармиш. Светский зимний курорт. До сих пор такие штуки были ей безразличны, пожалуй даже противны. Она поглядела на свои четырехугольные, совсем не холеные ногти. Люди, занятые работой, люди с осмысленным существованием – там не к месту. Кроме того, это стоит, должно быть, кучу денег, а она из-за запрещения заниматься своей работой и так скоро сядет на мель.
Гости стали прощаться. Когда Иоганна, в отличие от остальных, собралась идти пешком, г-н Гессрейтер настоял на том, чтобы проводить ее. Гордо шагал он рядом с ней. Она произвела впечатление, продвинула свое дело. Он рассматривал это как свой личный успех. Весь он, тяжеловатый, с плавными движениями, был воплощенной уверенностью в будущем. Иоганна насмешливо и скептически убавила девять десятых его надежд, но, готовая удовлетвориться и одной десятой, весело шла рядом с ним. Его массивность казалась ей неплохой защитой.
Во время довольно долгого пути он болтал о всевозможных посторонних вещах, перешел наконец, после бесконечных словесных маневров, к вопросу об идиотском запрещении, наложенном на ее профессиональную работу. Заметил, что это, должно быть, создает для нее материальные затруднения. Он полагает, что без особой надобности человек, очевидно, не станет анализировать мазню всякого там шута горохового. Вспомнив резкие и ясные фразы Жака Тюверлена и наслаждаясь медлительным и осторожным негодованием своего спутника, Иоганна, немного помолчав, ответила, что – да, покупать картины, как это делает г-н Гессрейтер, ей не по средствам. Затем, без видимой связи, добавила, что во время рассказа г-на Пфаундлера у нее мелькнула мысль о поездке зимой в Гармиш. Г-н Гессрейтер выразил бурное одобрение. Гармиш! Это чудесная мысль! Там она может в непринужденной обстановке завязать любые связи, все люди там приветливы и хорошо настроены. Разумеется, ей следует ехать в Гармиш. Пусть она своевременно сообщит ему, когда поедет. Для него будет страшным разочарованием, если она не позволит ему быть ей там полезным. Она может на него положиться: он выполнит все, что она доверит ему, наилучшим образом. При словах «выполнит наилучшим образом» Иоганна слегка вздрогнула, как вздрогнула и тогда, когда он в нужную минуту заговорил о деньгах. Они подошли к ее дверям, и он остановился, держа крепкую руку Иоганны с квадратными ногтями в своей пухлой холеной руке, дружелюбно и настойчиво глядя подернутыми поволокой глазами в ее широкое, простодушное лицо.
Укладываясь спать, Иоганна улыбалась. С улыбкой вспоминала старомодные, приятные манеры фабриканта Пауля Гессрейтера, пыталась изобразить, как он широко, словно загребая воздух, размахивает руками. Окончательно решила ехать в Гармиш. Заснула, улыбаясь.







