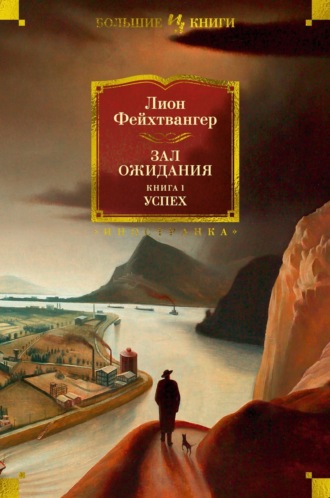
Лион Фейхтвангер
Зал ожидания. Книга 1. Успех
19. Защитительная речь и голос в эфире
Защитительную речь нужно было строить так, чтобы она подействовала на чувства присяжных. В Верхнебаварской области было бы неумно апеллировать к разуму судей народной совести. Расчет нужно было строить скорее на их эмоциональных восприятиях. Адвокату доктору Гейеру легче было бы развить строго логический ход мыслей, с математической точностью доказать, как слабы были аргументы в пользу виновности и сильны аргументы, доказывавшие невиновность подсудимого. Но он вызвал в памяти лица присяжных: Фейхтингера, Кортези, Лехнера – и твердо решил владеть своими нервами, не проявлять своего отвращения к существующей системе. Надо говорить общими местами, способными задеть их за живое. Если депутат Гейер и еще больше Гейер-человек ощущал потребность громко кричать о чувствах стыда, отвращения и гнева, вызываемых в нем состоянием баварской юстиции, то Гейер-адвокат обязан был стремиться только к одному – к спасению своего подзащитного, и только. Благоразумие требовало во имя этого скрывать свое возмущение, создать контакт с сидящими на скамье присяжных.
Он не напрягал своих мыслей. Сейчас он уже мог позволить себе эту роскошь. Ясный план защитительной речи был уже составлен. Рабочий кабинет, несмотря на все старания экономки Агнесы, уже снова имел неуютный и неприбранный вид. Всюду были разбросаны книги, бумаги. Ботинки он снял здесь, а не в спальне, и они, облепленные грязью, красовались посреди комнаты. Скинутый им сюртук был брошен на спинку стула. На столе, под бумагами, лежала плитка шоколада, на радиаторе стояла недопитая чашка остывшего чая. Пепел от папирос валялся повсюду.
Гейер лег на диван. Заложив подвижные, нервные руки за голову, он уставился в потолок. Зачем он принял на себя защиту Крюгера? Стоило ли защищать отдельное лицо? Разве не было у него более важного дела? Кто же такой этот Крюгер, что ради него он не щадит себя, опустошает свою душу, стараясь комедиантскими способами воздействовать на идиотов-присяжных? Он сильнее замигал, машинально зажег папиросу, закурил частыми затяжками, лежа на спине.
Что ему вообще надо в этом удивительно тупоумном городе? Ведь этот народ сам любуется своей омерзительной нелогичностью, блаженствует в студенистом хаосе своих представлений. Бог одарил их бесчувственным сердцем – большим, впрочем, плюсом на нашей планете. Он видел комика Бальтазара Гирля, мрачного шута, который с меланхолической псевдологикой упрямо копается в каких-то проблемах для дураков. На вопрос, например, почему он носит очки без стекол, Гирль отвечает, что это все же лучше, чем ничего. Ему объясняют, что усилению зрения способствует не оправа, а стекла. «К чему же тогда носят оправу?» – спрашивает он. «Чтобы держались стекла», – отвечают ему. «Ну вот, – отвечает он, вполне удовлетворенный, – я ведь так и говорил, что это лучше, чем ничего». Он очень популярный комик, его слава распространяется далеко за пределы города. Ему, Гейеру, он противен. Но весь здешний народ именно таков, как этот человек с очками без стекол. Его удовлетворяет пустая оправа юстиции, даже если она болезненно врезается в тело. Внутреннего содержания ему не нужно. И для этого народа он лезет из кожи! Чего ради? К чему старается он очистить грязную машину судопроизводства, когда те, кого она давит, прекрасно чувствуют себя в своем навозе? Ему свойственна выходящая далеко за пределы логики и разума, ненормальная, фанатическая потребность чистоты в вопросах права, потребность полной ясности. Отдавая себе отчет в неудовлетворительности всего аппарата, он желает хотя бы того, чтобы этот аппарат функционировал с механической точностью. Зачем? Никто не скажет ему за это слова благодарности. Он похож на хозяйку, стремящуюся во что бы то ни стало навести чистоту в доме, где жильцы чувствуют себя уютно только в грязи и затхлой атмосфере. Он похож на свою экономку Агнесу. Эти люди чувствуют себя гораздо лучше при «национальной юстиции» своего Кленка.
Вот он лежит на диване, смертельно измученный напряжением, с которым ему приходится сдерживать свои ежеминутно готовые выйти из повиновения нервы. Разве не благоразумнее было бы в тиши и покое закончить свою «Историю беззаконий в Баварии»? О своей книге «Право, политика, история» он уже не смеет и думать.
Он лежит на спине. Папироса потухла. Глаза закрыты, но он так устал, что у него нет сил снять очки. Он дышит тяжело. Тонкая кожа лица, несмотря на лихорадочный румянец, кажется дряблой под покрывающим ее редким пушком. Он плохо выбрит.
Он лежит так некоторое время, стараясь ни о чем не думать, но четко работающая память вытягивает на поверхность все новые и новые вопросы и образы: какие-то стихи о справедливом судье из старинной индийской пьесы, остроты популярного комика, рассуждения Мартина Крюгера в одной из его работ о связи фламандского искусства с испанским, лица присяжных на его процессе. А среди них и лицо присяжного фон Дельмайера. Легкомысленное, бледное, заостренное книзу лицо страхового агента фон Дельмайера снова, заслоняя все остальное, витает в мозгу усталого человека, лежащего на диване. Это лицо напоминает крысиную мордочку: такое острое, с мелкими глупыми зубками. Да и тонкий, плоский смех этого человека имеет что-то общее с крысиным писком. Весь этот человек – грызущая, заразная крыса. А за ним, из-за его плеча выглядывает другое, еще более бледное лицо. Адвокат дышит так, что его вздохи звучат словно подавленное рычание или болезненный стон. Резким усилием он заставляет себя встать. Нет, так он не отдохнет. Он потягивается, зевает, пустым взглядом окидывает кабинет. Еще не поздно. Он мог бы, пожалуй, еще глубже продумать кое-какие места своей защитительной речи. Но благоразумнее быть завтра свежим и сейчас, хотя время и непривычно раннее, лечь спать. Почти машинально надевает он наушники радиоприемника: ему хочется унести с собой хоть несколько тактов музыки. Но лицо его вдруг напрягается, взгляд становится острым, злым, взвешивающим. Он слышит низкий, жизнерадостный, насмешливый голос министра Кленка. «Абсолютного человеку достичь не дано. Нашим идеалом должно быть – перестроить нормы, оживающие только при соприкосновении с человеком, пронизать их национальным духом».
Адвокат и депутат ландтага доктор Зигберт Гейер медленно снимает наушники, необычно бережно выключает приемник. Его лоб покрыт пятнами. Он стирает рукой со лба пот, уже не кажется больше утомленным. Он вытаскивает из-под груды бумаг рукопись, на синей обложке которой виднеется надпись: «История беззаконий». Эта рукопись всюду следует за ним: из канцелярии в квартиру, из квартиры снова в канцелярию. Он перелистывает страницы, весь напрягается, перечеркивает, пишет. Экономка Агнеса своими широкими, крадущимися шагами пробирается в комнату, нервным, скрипучим голосом твердит о том, что он снова не ужинал, что завтра у него трудный день, что так дальше продолжаться не может и что пусть он наконец поест. Он поднимает глаза, не видя, смотрит куда-то мимо нее. Она начинает кричать. Он не прерывает ее. В конце концов она удаляется. Проходит два часа. Он все еще сидит и пишет.
На следующий день, произнося свою защитительную речь, адвокат безукоризненно владел собой. Его руки не дергались, лицо не было дряблым, щеки не вспыхивали внезапным румянцем. Его резкий голос звучал не совсем приятно, но он держал себя в руках и говорил не чересчур быстро. Он видел перед собой лица людей, следивших за движением его губ. Упорнее всего он останавливал свой пронизывающий взгляд на лице антиквара Лехнера, и по тому, как часто пользовался Лехнер своим пестрым носовым платком, адвокат судил о правильности взятого им курса. Все эффекты попадали прямо в цель.
Правда, такой знаток, как адвокат Левенмауль, заметил, что доктор Гейер дважды отклонился от своей основной линии. Однажды он без надобности заговорил о бесчисленных соблазнах современной эпохи, об отрицании ею всякой дисциплины, о ее легкомысленной, опустошающей, в сущности лишенной темперамента, погоне за наслаждениями. С трудом перешел он затем к излишнему и даже вредному утверждению, что и Мартин Крюгер был заражен этой жаждой наслаждений, но что у него она в значительной мере претворялась в искусство. Но не заметил адвокат Левенмауль того, что во время этого обличительного отступления взгляд доктора Гейера, соскользнув с лица антиквара Каэтана Лехнера, впился в бледное, угреватое лицо страхового агента фон Дельмайера, который, однако, не отвел при этом скучающего, насмешливо-наглого взгляда от быстро двигавшихся губ адвоката. Позднее Левенмауль заметил, что его коллега начал распространяться по общим вопросам, которые первоначально, несомненно, не входили в намеченный план речи, увлекся рассуждениями об этике в области права, очень, правда, темпераментными, но более подходящими для парламента, чем для присяжных заседателей. А случилось это именно тогда, когда в зале неожиданно появился министр юстиции.
Оба раза доктор Гейер быстро овладел собой. Даже враждебно настроенные газеты принуждены были признать, что произнесение известным адвокатом защитительной речи представляло собою эффектное судебное зрелище.
20. Несколько хулиганов и один джентльмен
На другой день после вынесения Крюгеру обвинительного приговора Иоганна Крайн, направляясь к доктору Гейеру, проходила по бульвару вдоль берега Изара. Короткое, по моде того времени, бледно-зеленое платье открывало ее ноги, крепкие, несколько полные с точки зрения царившего в те годы вкуса. Она не торопилась, шла медленно. Песок поскрипывал под ее низкими каблуками. Веял свежий ветер; лаская взгляд, раскинулся город в веселом, ярком свете возвышенности. Иоганна любила этот город. Она наслаждалась дорогой и не без удивления отметила, что уже не ощущает гнева. Она шла бодро, вдыхая аромат раннего лета, окруженная молодой зеленью. Внизу быстро и мощно катились воды реки. Иоганна чувствовала себя спокойной, готовой к борьбе.
Из-за поворота дорожки показались четверо громко болтавших между собою молодых людей. Один из них был в спортивной куртке из серовато-зеленой материи. Они пристально оглядели высокую девушку. Один из них помахал тонкой тросточкой. Потом они обогнали ее, несколько раз оглянулись, громко, с подчеркнутой развязностью засмеялись, с шумом уселись на скамейке. Иоганна Крайн на мгновение подумала, не повернуть ли назад или не свернуть ли на боковую дорожку. Но тут же заметила, что те четверо уставились на нее, явно выжидая, что она предпримет. Иоганна пошла прямо, мимо них, не ускоряя шага. «Конечно, это она!» – сказал один из них, тот, что был в куртке. Тот, который был с тросточкой, глядя на нее, громко присвистнул. Как только она прошла мимо, они поднялись, последовали за ней. Двое маленьких детей шли ей навстречу. Больше никого не было видно кругом. Она шла все так же медленно. Ее широкий лоб прорезали три гневные бороздки. Надо идти еще минуты три, затем эту дорожку должна пересечь другая, да, кроме того, вероятно, и эта дорожка не будет все три минуты такой безлюдной. Компания за ее спиной делает свои циничные замечания так громко, что она не может не слышать их. Они явно выжидают с ее стороны какого-нибудь ответа, и тогда скандал неизбежен. Но она будет благоразумной, не будет реагировать. Стоит показаться кому-нибудь на дороге, как она все равно избавится от этих мерзавцев. Вон там впереди уже виднеется кто-то. Кажется, прилично одетый человек. Она смотрит прямо вперед, на мост, узкой полоской перетягивающий реку, и на пелену тумана далеко за ним. Идущий ей навстречу человек становится больше. Четверо молодых парней идут за ней вплотную, почти наступая ей на пятки. Их грубые, циничные голоса звучат у нее в ушах. По-видимому, они выпили. Идущий навстречу человек, должно быть заметив что-то неладное, ускоряет шаг.
– Барышня, вы что ж это сегодня так рано утром уже в поисках кавалера на ночь? Что, если б вам выбрать одного из нас? Мы тоже не хуже других выполним свою работу. Хоть взглянули бы на нас! Или, может быть, нужно представить вам удостоверение, что хоть раз лжесвидетельствовал?
Она продолжает идти все так же медленно. Но вот, когда идущий навстречу человек уже совсем близко, она все-таки ускоряет шаг, даже бежит ему навстречу так, что колышется ее юбка. Это худощавый человек, в хорошо сидящем сером костюме, с резко очерченным лицом и рыжевато-белокурыми волосами.
– В чем дело? – спрашивает встречный чуть сдавленным голосом. – Что вам нужно от этой дамы?
Иоганна Крайн стоит возле него, протянув к нему руку, словно желая ухватиться за него, полураскрыв рот, – сейчас уже скорее напуганная, чем разгневанная.
– Ну, на гулящую девку смотреть, я думаю, разрешается? – говорит один из четырех.
Это звучит спокойно, пояснительно, почти добродушно, немножко пахнет отступлением. Но господин уже наскочил на него. Однако движение, которым он собирался подмять его под себя, не удалось. Господин, по-видимому, обучался приемам джиу-джитсу, но недостаточно основательно. Во всяком случае, он уже лежит на земле, а те четверо колотят и топчут его что есть мочи.
– Какое вам вообще дело? – кричат они. – Вы, верно, кот этой дамочки? – вопит один из них.
Позади них на дорожке показывается пожилая супружеская чета, да и впереди появляются люди. Белокурый господин лежит на земле молча, не шевелясь. Иоганна Крайн кричит, кричит что есть силы. Люди, видневшиеся впереди, ускоряют шаг; супружеская чета останавливается; видимо боясь оказаться впутанной в драку, поворачивает назад.
А те четверо оглядывают лежащего на земле. Он по-прежнему не шевелится, выглядит очень грязным и измятым, по руке и лицу текут тонкие струйки крови. Но он тихо дышит. Глаза закрыты.
– Получил, скотина, что следует! – несколько неуверенно замечает один из парней.
– Вам, барышня, вовсе не из-за чего было так сразу вопить, – замечает тот, что в куртке. – Эти бабы вечно орут, словно их режут!
– Никто вас не собирался трогать, – говорит третий.
Но четвертый, не смущаясь и помахивая тросточкой, коротко обрывает разговор:
– Не взыщите, барышня!
И затем все четверо отступают в полном порядке, но весьма поспешно, в том направлении, куда скрылась супружеская чета, и как раз до того, как успевают подойти люди, приближающиеся с противоположной стороны.
Иоганна Крайн стоит на коленях возле лежащего. Песок колет ей колени. Подошли люди. Как-то сразу их собралось много: какой-то рабочий, влюбленная парочка из мещан, девочка-подросток с сумкой для книг, двое молодых людей, по-видимому студенты, пожилая дама, ковыляющая с палкой в руке.
Белокурый господин приоткрывает глаза.
– Они ушли? – осторожно спрашивает он. Затем с некоторым трудом высоким сдавленным голосом добавляет, обращаясь к Иоганне: – Вы испачкаетесь.
– Вы можете двигаться? – сыплются со всех сторон вопросы. – Не позвать ли врача? Санитара? Полицейского? Что, собственно, случилось?
Господин приподнимается, стонет и кряхтит. Поддерживаемый со всех сторон, становится на ноги.
– Благодарю, мне, кажется, ничего не нужно, – говорит он.
– Как они его отделали! – с возмущением восклицает дама, опирающаяся на палку. – Такой хороший костюм!
– Вот если б достать щетку… – бормочет белокурый господин, тщетно пытаясь стереть носовым платком кровь. Иоганна дает ему свой платок.
– Дамские платки для этого не годятся, – замечает он деловым тоном.
То, что он, пошатываясь, с лицом и руками, испачканными кровью, стоит, окруженный тесным кольцом зевак, нисколько не смущает его.
– Мне, право, больше ничего не надо, господа, – говорит он наконец. – Там у моста обычно стоят автомобили. Пять минут до них я вполне могу пройти. Да и вообще мне ничего, кроме воды и щетки, не понадобится.
– Так отделать человека! – не перестает повторять старушка с палкой. И под шум оживленного обмена мнений белокурый господин направляется к мосту. Он взял Иоганну под руку, словно это само собой разумелось. Окружающие разочарованы: все кончилось, а подробностей узнать не удалось.
– Ее лицо мне как будто знакомо, – говорит один из студентов.
– А она не киноактриса? – мечтательно осведомляется девочка-подросток с сумкой для книг.
– Он сам напал на него, – авторитетно сообщает кто-то.
– Кто? На кого? – спрашивают другие, и осведомленный сообщает подробности.
– Поглядите только, как они его отделали! – не унимается старушка с палкой, и все в некотором отдалении следуют за белокурым господином, который, прихрамывая, идет, опираясь на руку Иоганны.
– Разве я не ловко разыграл все это? – говорит белокурый господин, мальчишески-шаловливо обращаясь к Иоганне.
– Как? Что? – удивленно переспрашивает Иоганна, в то же время стараясь очистить приставшую к ее платью грязь.
– После того как я первый раз схватил его слишком низко, я ведь уже не мог ничего поделать, – поясняет он. – Ясно, что разумнее всего было закрыть глаза и разыграть мертвого жука. – Он все еще сильно прихрамывал. – Неужели вы сочли бы проявлением храбрости, если бы я предоставил им еще больше избить меня?
Иоганна невольно улыбнулась.
– Кстати, вы знакомы с этими молодыми людьми? – спросил он, повернув к ней свое умное, несколько помятое лицо и лукаво поглядывая на нее.
– То есть как? – удивилась Иоганна, высоко подняв брови.
– Если вы ничего не хотите рассказать мне об этом столкновении, – заметил он, – то у вас, должно быть, на это есть свои соображения. А я был бы не прочь узнать подробности. Скажу вам, что я от природы любопытен. – Он снова лукаво и доверчиво поглядел на нее. – Ай! – вскрикнул он, вдруг сильно припадая на ногу. Но когда она попыталась поддержать его, он сейчас же заворчал: – Да уберите же вашу руку! Вы только испачкаетесь в крови!
– Конечно, я этих хулиганов не знаю, – сказала Иоганна, – но они-то, должно быть, узнали меня.
– Как так – узнали? – своим сдавленным голосом спросил он. – Разве вас нужно обязательно знать? Кто же вы – кинозвезда? Или чемпионка по плаванию? Впрочем, мне ваше лицо действительно начинает казаться знакомым.
– Я рада, что мы добрались до автомобиля, – заметила она, так как его лицо снова страдальчески передернулось. – Эта история все-таки не прошла вам даром. Не лучше ли будет мне проводить вас?
– Ерунда, – сказал он. – Меня зовут Жак Тюверлен, – продолжал он после короткого молчания. – Если вам это будет приятно, можете справиться о моем здоровье. Мой номер найдете в телефонной книжке.
Она вспомнила, что где-то видела это имя напечатанным, но все же заставила Тюверлена повторить его по буквам.
– Меня зовут Иоганна Крайн, – проговорила она затем.
– Ах, так… вспоминаю! – подумав, отозвался он. – Но знаете, тогда пожалуй, будет лучше, если вы действительно поедете со мной. Не ради меня, а принимая во внимание создавшуюся обстановку. – И лицо его снова стянулось в бесчисленные складочки. Но сразу же затем он опять успокоился и выжидательно поглядел на нее.
Она также взглянула на него и увидела, что у него широкие плечи и узкие бедра. Мотор был заведен. Поколебавшись немного, он сел в автомобиль.
– О, я не думаю, чтобы ко мне еще раз привязались, – с опозданием произнесла Иоганна. – Эти четверо, вероятно, были пьяны. В общем ведь здешние люди довольно добродушны.
– Это ваше личное мнение, – сказал он. – Во всяком случае, при всем своем добродушии, за последние годы они поубивали немало народу. – Он уже сидел в машине, мотор гудел. – Вы знакомы с джиу-джитсу? – спросил он. И так как она, смеясь, покачала головой, добавил: – Тогда вам, пожалуй, все же следовало бы поехать со мной. – Прищурившись, он глядел на нее лукавыми, немного сонными глазами.
– Но в двенадцать мне нужно быть у моего адвоката, – произнесла она, уже стоя на подножке автомобиля.
– Так-то умнее, – весело сказал он, когда она села рядом с ним и автомобиль тронулся.
Книга вторая. Движение
1. Вагон метрополитена
Вагон номер четыреста девятнадцать берлинского метрополитена, покрытый наполовину красным лаком, с мягкой красной кожаной обивкой, наполовину желтым лаком, с деревянными скамьями, был набит до отказа. Был час окончания занятий. Люди стояли, держась за ременные петли, прижатые друг к другу, притиснутые к коленям сидящих. Они толкали друг друга локтями, старались занимать как можно меньше места, бранились, извинялись. Кто-то сильно пахнувший дезинфекционными средствами сидел в углу, откинув назад забинтованную голову и полузакрыв глаза. Какая-то дама посасывала конфеты, вытаскивая их из пакетика, другая ежеминутно роняла на пол то сумочку, то один из своих многочисленных свертков. Какой-то беспомощный человек в очках, несмотря на все старания, вновь и вновь натыкался на соседей; кто-то ловким приемом обшаривал чей-то карман. Какая-то дама была занята губной помадой. Две молодые девушки беспокоили публику своими теннисными ракетками, а человек в синей блузе – похожим на пилу инструментом, который, по мнению большинства, вовсе не полагалось брать с собою в вагон.
Весь этот человеческий груз, хихикая, споря, совершая сделки, флиртуя, распространяя запах духов, с тупым, потухшим взглядом цепляясь за ременные петли, в одинаковом механическом ритме следовал движениям мчавшегося поезда, шатался, покачивался при крутых поворотах, одинаковым движением век щурил глаза, когда поезд из освещенного электричеством туннеля вылетал наверх, в полосу ярких лучей вечернего июньского солнца.
Многие читали только что вышедшие иллюстрированные вечерние выпуски газет с разжигающими любопытство жирными заголовками. «Покушение на депутата Гейера» – гласил крупный заголовок в одной из газет. Другие газеты, наоборот, приводили это известие мелким шрифтом на второй странице, приберегая на первой странице место для «Злоупотреблений чиновников-социалистов».
Но, независимо от размеров заголовков и шрифта, читатель все же мог узнать, что ранним утром на одной из тихих улиц Мюнхена три каких-то субъекта напали на адвоката Гейера и избили его дубинками так, что он, окровавленный и в обморочном состоянии, остался лежать на земле. Нападавшие успели скрыться. Одна из газет выражала бурное возмущение тем, что в Мюнхене возможно такое нападение среди бела дня, и как на одну из причин одичания нравов указывала на явное потворство со стороны баварского правительства. Другая газета говорила лишь о «легком ранении» доктора Гейера и высказывала предположение, что все дело сводится к чьей-то личной мести. Все, утверждала газета, знакомы с вызывающим поведением этого адвоката, лишь недавно проявившимся вновь на процессе Крюгера, и если и не оправдают, то во всяком случае поймут причину избиения.
Известие это было прочитано большинством пассажиров вагона номер четыреста девятнадцать берлинского метрополитена вечером 28 июня.
«Все дело в том, – подумал толстый пассажир, страдавший сильной одышкой, – что он чересчур лез вперед. Я с моим слабым сердцем не мог бы позволить себе такие авантюры. Правда, такая штука зато создает рекламу. Но ценой таких треволнений – нет, это слишком дорогое удовольствие!» Он вытер покрытое потом лицо, успокоил зашевелившуюся у его ног собаку и твердо решил впредь, как и до сих пор, держаться подальше от политических процессов.
«А всё оттого же, – подумал высокий видный господин в охотничьем костюме и высоких сапогах, – что эти евреи сами во всем виноваты. Зачем они вмешиваются в наши дела, которые их вовсе не касаются?»
«Мюнхен, – подумал толстяк с массивной тростью, – акции пивоваренных заводов… Не повлияет ли эта история на их курс? Если они не поднимутся еще, мне так и не видать автомобиля!»
Двое молодых людей, которые, склонившись над газетой, вместе прочли напечатанное в ней известие, взглянули друг на друга взволнованно и мрачно и продолжали сидеть молча, с расстроенными лицами.
– Когда реакционная сволочь нападает на рабочего, – высоким, взволнованным голосом произнес плохо одетый молодой человек в очках, обращаясь к двум другим, – а происходит это чуть ли не ежедневно, – об этом не печатают таким крупным шрифтом!
Какой-то стройный молодой человек в полувоенной куртке враждебно поглядел на говорившего, спрашивая себя, не вмешаться ли ему в это дело, но, увидя, что в этом вагоне он вряд ли привлечет на свою сторону большинство, удовлетворился угрожающим взглядом.
«Опять эта бесконечная политика!» – подумал человек с застывшим на лице выражением мужественности и с огромным перстнем на пальце и перевернул страницу газеты в поисках рецензии на вчерашнюю премьеру, где выступал его коллега.
– Я всегда это говорил, – волновался господин еврейского типа, обращаясь к своей полной соседке. – Не нужно ездить летом на баварские курорты. Когда они почувствуют, что уменьшается число приезжих, то бросят выкидывать такие штуки!
– Если они будут выкидывать такие штуки, – с беспокойством шептала девушка в очках, – цены на масло полезут еще выше. Сейчас уже фунт стоит двадцать семь марок двадцать пфеннигов. Я и так уже весь конец недели не могу Эмилю на завтрак намазывать хлеб маслом.
«Не послать ли телеграмму с выражением возмущения? – размышлял бледный, вегетарианского типа господин в пенсне и с огромным портфелем, задевавшим всех своими углами. – Если я этого не сделаю, скажут: „Вы никогда ничего не делаете вовремя“, а если я это сделаю, а потом дело обернется иначе как-нибудь, бонзы будут брюзжать».
– Ну и времечко! – плакалась какая-то взволнованная дама, прочитав известие через плечо соседа.
– Кого казнили? – закричала ее полуглухая, дряхлая мамаша.
– Доктора Гейера.
– Это не тот ли министр, который устроил инфляцию? – кричала мать из противоположного конца вагона.
Кто-то попытался объяснить ей, в чем дело. Кто-то с возмущением требовал, чтобы перестали шуметь.
– Так, значит, это и есть министр! – с удовлетворением констатировала глухая.
На каждой остановке люди выходили из вагона, быстро направлялись к выходу, торопились к ужину, к женщине, к приятелю, в кино. Уже на ступеньках ведущей на улицу лестницы они успевали забыть о газетной заметке. Назойливый крик газетчика: «Покушение на депутата Гейера!» – звучал как нечто устарелое и скучное в ушах этих спешивших куда-то людей.







