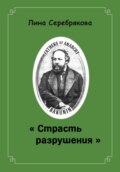Лина Серебрякова
Крепитесь, други!
– При чем тут… – поморщилась Екатерина Дмитриевна. – Мы, Витя, и так сидим, как прибитые, а вы, артист, вместо поддержки, лишь добавляете желчи.
Виктор вернулся за стол.
Он удивлялся на себя. Никакой жалости, никакого стыда, ни раскаяния, ничего! Неужели все это у него на левой руке? Чушь собачья.
«Наверное, на старости лет буду ворочаться в постели, но пока, тьфу-тьфу-тьфу, стою как скала". В течение двух дней, предвидя смену денег после Нового года, он носился по городу, менял рубли на зелень разного достоинства в трех десятках обменниках.
Не в одном и том же, упаси Бог!
Теперь его девизом стала сугубая осторожность. Со вчерашнего дня в укромных тайниках квартиры лежали плотненькие зелененькие пачечки долларов, услада чувств и дум заветных… Он подумывал о железной двери, но побоялся привлекать внимание. И главное: никакой мести "Белой звезде"! Мальчишество, чушь собачья. Его ответ – его наличность.
– Добрый день! Вас приветствует газета "Городская новь"… – звучал тихий голос Лады.
Несмотря ни на что, она продолжала разыгрывать бесконечные телефонные гаммы. Наконец, и она, вздохнув, положила трубку.
– Не идет сегодня. По голосу чуют, что ли? После двадцати пяти отказов нужно как-то восстановиться.
Лада давно ощутила, что от плотных рекламных переговоров в душе смолкают все тонкие звуки. И когда это случалось, когда накатывало уныние, а душа просила счастья и музыки, Лада поднималась на последний этаж, и выше, на чердак, если на его дверях не висел замок.
Железная крыша, деревянные стропила, гравийная засыпка пола обладали мягким звучанием, и если удалиться от входа и отвернуться к слуховому окну, можно было петь в полный голос и даже плясать на деревянном настиле. Чего она только не пела! "Рябину", "Степь да степь", "Позарастали стежки-дорожки", частушки, арии Розины, Виолетты, Кармен, даже короля Филиппа, даже концерты для скрипки с оркестром! На душе вновь возникали нежность и высь. Мягкая, освеженная, спускалась она вниз, к телефонным поединкам.
Никто не знал, где она бывала, даже Шурочка.
Виктора, между тем, так и подмывало.
То, что никто не догадывается о его успехе, угнетало, как немота. Он вновь вскочил и пустился в размышления на любую тему, хотя бы о последнем замечании Лады, лишь бы не молчать, высказываться на публику.
Он начал сочувственно.
– Да, двадцать пять неудач – это круто. Так и сорваться недолго. Ведь кто такой рекламный агент? По большому счету, змеелов. В чем его искусство? Сначала обманными движениями он выманивает змею из норы. Страшно? А как же! Потом хватает за голову и прижимает зубами к чашке. Это вообще жуть. Наконец, готово, змея подоена, договор оплачен. Или сорвалось, и все напряги насмарку. Еще круче. Поэтому надо восстанавливаться. В режиме страха долго не продержишься.
– Вы неисправимы, Витя, – с досадой оглянулась Екатерина Дмитриевна, стоявшая у полки.
Она набирала чистые бланки для своей группы и придирчиво сверяла банковские реквизиты.
– Я просто назвал вещи своими именами. Тьму низких истин, так сказать. Желаете возвышаться самообманами – ваше право.
– Ты всех разрушаешь, герой, – посмотрел Юра. – Я тебе не верю.
Виктор пожал плечами.
– И не надо мне верить. Ищи себя, любого себя в тайных глубинах самого себя. Если бы… если бы вот это окно стало исправлять себя, чтобы отразиться в мониторе ровным прямоугольником, каким бы оно оказалось на самом деле? Можно представить.
– О-а-а, – делано зевнул Юра.
Виктор рассмеялся и уселся на место.
Уходить не хотелось.
Теперь, после треволнений минувших недель, он ощущал ровную сытость богатого человека. Драгоценная жизненная энергия, затраченная сотрудниками агентства и превращенная в социальную, в деньги, надежно защитила его от суровостей жизни. Но все же следовало сделать хоть несколько звонков, чтобы не вызывать подозрений. Он набрал номер.
Был обеденный перерыв, тамошняя секретарша, по счастью, отлучилась, ответил вице-президент компании.
– Слушаю, – сказал он бархатистым баритоном.
И Виктор, уважительно и солидно, как состоятельный человек состоятельному человеку, посоветовал разместить в прессе статью, а лучше интервью на полстраницы, а лучше на целую газетную полосу накануне Нового года, чтобы показать друзьям и недругам, кто чего стоит.
Все в комнате подняли головы, внимая этой беседе.
Такого здесь еще не слышали! Высший пилотаж!
– Вы меня убедили, – согласился клиент, – пришлите счет по факсу.
– Может, подъехать с договором? – суетнулся Виктор.
– Я сказал, по факсу. Мы оплатим.
Через пять минут заполненный договор, без единого процента скидки, был отправлен.
– Хорошо идти пешком, держа за повод своего коня…– щелкнул пальцами Виктор, полагая, что эта фраза из Монтеня не будет понята никем.
Он ошибался. Шурочка вполне ощутила издёвку этих слов. Сдерживая себя, она сжала кулаки и поднесла их к пылающему лицу.
В эту минуту в комнату вернулась Лада, и Шурочка сгоряча накинулась на нее, и неловко, оскорбительно предложила свою прекрасную спасительную помощь.
– Ты меня, конечно, извини, – резко сказала она, – но тебе давно пора сделать пластическую операцию. Молодость проходит, а ты так ничего и не знаешь. Правда, Агнесса?
Агнесса от неожиданности не нашлась с ответом. Все повернулись к Ладе. Девушка залилась румянцем. Как все блондинки, она вспыхивала так, что лицо, шея, уши, и, казалось, само тело розовели в минуты смущения.
– Я… я не знаю, – пролепетала она.
– А что там знать? – напористо продолжала Шурочка, – мой клиент в Косметическом центре делает эти операции каждый день. У него такие альбомы с исцелёнными – глазам не поверишь! Я положила им скидку в сорок три процента, так что все схвачено, за все заплачено, как в песне. Иди и возвращайся красивой.
Все молчали. Поворот темы был сногсшибательным.
– Быть или не быть, вот в чем вопрос, – Виктор встал в позу Гамлета. – "Достойно ли смиряться под ударами судьбы иль надо оказать сопротивленье"?..
Никто не обратил на него внимания. Все молча обдумывали новость.
– Что молчишь? – смягчилась Шурочка.
Из глаз Лады покатились слезы.
– Я боюсь, – мучаясь вторжением в свое сокровенное, прошептала она. – Вдруг не получится…
– А если не получится, врач обязан на тебе жениться. Опять не хуже, – наставительно склонился к ней Виктор.
– И ничего смешного! – наконец-то сорвалась на него Шурочка. – У человека судьба решается, а ему шуточки! – базарные нотки явственно зазвучали в комнате. – Смотрите на него! Ходит тут, выказывается… Плевать ему на всех, ему хорошо, и ладно! А люди хоть пропадай!!
Виктор опешил. Что-то знакомое было в этом, что-то, что-то… Зора… Черт бы побрал этих женщин с их ведовством!
Но Шурочка уже выплеснулась и замолчала ради собственной безопасности. Она подсела к Ладе.
– Не бойся. Я видела у Карена фотографии людей до и после операции. Очень хорошо получается, правда-правда. Вот его визитная карточка. Звони и записывайся на первый прием. Скажешь, от меня.
– Алло! Семен Семенович, ты слышал новость?
– Нет. Какую?
– "Голоса" передали только что. Крах на биржах Юго-Восточной Азии. Азиатские "тигры и драконы" ранены. В Сингапуре, Южной Корее, Тайване – везде обвал. Они говорят, что это дело рук США, точнее Джорджа Сороса. Как ты считаешь?
– Выходи на сквер, Викентий Матвеевич. Надо обсудить.
Они встретились минут через сорок и пошли по обледенелым дорожкам. Было ветрено, на ледок ложилась пороша. Они сошли с тропинки и зашагали по газону, чтобы не поскользнуться.
– Теперь жди беды, – говорил Викентий Матвеевич. – Подскочит доллар, поползут цены. Это надолго.
– Не сразу же, – возразил Семен Семенович. – Сначала в Европе, потом у нас.
– В Восточной Европе, скорей всего. Мы следующие.
Семен Семенович нахмурился. Он получал военную пенсию и мог бы, казалось, не слишком печалиться, но жена, дети, внуки – всех надо поддерживать, и, если поползут цены, накроет всех без разбора.
– Понятно, чьи это козни, – произнес он. – Конечно, все это Америка делает. Не нравится ей, что они все могут объединиться и жить своим миром. Азиаты! К ним Китай ближе, вдруг с ним сговорятся? Вот американцы и хотят их в пыль разбить. И нас заодно. Мы теперь слабые, дохлые, никудышные. Знаешь, под каким условием они помогают Украине и Молдавии?
– Под каким? – Викентий Матвеевич знал, и сам же говорил об этом майору, да тот, видно, запамятовал.
– Чтобы они не платили долгов Газпрому!
– Ишь ты.
– Так нам и надо! – злился Семен Семенович. – Тащим к себе их демократию, точно заморскую невесту. Промышленность остановилась, народ криком кричит, жулики расплодились, как тараканы. А мы их во власть выбираем в этой дерьмократии, что в Кузнецке, что в Нижнем Новгороде. Учителя, святые люди, прекратили занятия с детьми! Голодают! Когда это было? Позор! Нет, Викентий Матвеевич, демократия не для нас. Вон, в девяносто третьем, в октябре, помнишь? – расстрелял собственный парламент, и что? Вскочил петух на забор, кричит с танка, ан руки-то в крови, кто он теперь?
Майор погрустнел. Викентий Матвеевич поддержал его.
– Помнишь, Семен, как народ повалил тогда на Пресню? Зевак на улицах, как на гулянии! Нам все игрушки,
– А потом заполыхал, задымился Белый дом. Мне из штаба хорошо видно было. Клубами черными, с полымью, лишь красные флаги сквозь них трепетали… Нет, Викентий Матвеевич, труха все это. Верховная власть должна быть крепкой, единодержавной, как всегда и было на Руси. Иначе рассыплемся на кусочки.
– Военным людям нравится дисциплина, – миролюбиво согласился Викентий Матвеевич.
– И не скрываю этого. Что такое ваша свобода? В понятии русского народа, свобода – это воля, а воля – озорничество. Дать ребенку свободу, значит, погубить его, дать русскому человеку свободу, значит, погубить Россию. Так и происходит.
– Ты слышал о гонорарах этого рыжего? Четыреста пятьдесят тысяч долларов за книгу! – усмехнулся Викентий Матвеевич.
– Да слышал, слышал. Такая же пакость, как и все они там наверху. У них свои разборки. – Деньги – в заграничные банки, народу – лапшу на уши. Что же нам-то делать?
– Пока не поздно, все сбережения перевести в доллары.
– А где хранить? Государство опять обманет.
– А коммерческие банки, думаешь, не обманут? Клады пора закапывать, земля сохранит. Дожили. «Держите деньги в банке, а банку в огороде», – безнадежно усмехнулся Викентий Матвеевич.
– Не верит народ правительству, уже не верит. У кого, в какой стране такое возможно? Государство чистит карманы граждан, яко тать в нощи… куда ж бедному человеку податься? Куда-а? Беззащитны мы, сиры и бесправны в родном отечестве, – старый солдат с горечью отвернулся.
Они прошлись до большой дороги и повернули обратно. Был час утренней выгулки собак. Множество животных разных пород, в том числе овчарки и доги, бегали по всему скверу без поводков и намордников, сбивались в стаи, учиняли драки и хриплый злобный лай. Чистый снег покрывался ежедневными пятнами их грязи. Собак было столько, что мамашам с колясками и с маленькими детьми гулять по дорожкам становилось опасно.
– Выйдешь еще? – спросил Семен Семенович.
– Навряд ли. Разве что к вечеру. Как же нам разобраться с этими "тиграми и драконами"?
– Будем наблюдать.
Тот недоброй памяти октябрь девяносто третьего года, грохот канонады на Пресне ударил по здоровью Мокия Кузьмича первым инсультом. Внезапно, среди бела дня, прямо за рабочим столом, старик обмяк и повалился на левый бок, уронив телефонную трубку.
Недели через три речь его восстановилась, в руках для устойчивости появилась массивная резная трость, однако, на былое здоровье рассчитывать уже не приходилось. Поэтому-то и повез Егоров своего зятя "в медвежий угол" к холмистым переулкам Трехгорья, там же, у Красной Пресни.
Впервые в жизни Алекс увидел этот двухэтажный, нескладный, крепко сделанный домик с аршинными стенами и мелкими оконцами. Он выделялся простою побелкою, сквозь которую нет-нет да и розовел голый кирпич.
"Утюг"– усмехнулся Алекс, выходя из машины.
В этом неказистом строении, по объяснениям тестя, совсем недавно располагался склад министерства бытового хозяйства, упраздненный лишь в позапрошлом году. Теперь же, "охраняемый государством, как архитектурный памятник середины восемнадцатого века " домик стал собственностью господина Егорова.
Кому этот "утюг" принадлежал от века, Алекс стал догадываться, когда, отгремев железными дверями, пришлось подниматься – он, Грач, Мокий Кузьмич и доверенный нотариус, по крутым, белого камня ступеням на второй этаж. Ковры, занавеси, старинные стулья, лавки, сундуки… по дубовым кондовым доскам пола мужчины шли под округлыми сводами в залу. Перед ее тяжелой, с латунными накладками, дверью находились две-три двери поменьше.
Он видел такое в купеческом музее на Варварке.
Из одной двери вышел и присоединился к ним Константин Второй, в других, чуть приоткрытых, виднелись фигуры служащих и современное офисное оборудование.
Зала сохраняла облик, соответствующий впечатлению от всей постройки. В камине потрескивал огонь, вдоль белых стен тянулись глухие деловые шкафы, батареи парового отопления были прикрыты дубовыми панелями, всю середину помещения занимал обширный тяжелый стол, окруженный неподъемными стульями.
Внизу, под столом, нашлась широкая удобная подставка для ног.
Отдуваясь, Мокий Кузьмич сел на председательское место. Одесную усадил Алекса, ошую, по левую руку – Грача, пригласил расположиться поближе нотариуса и Второго.
– В присутствии доверенных лиц я, Егоров Мокий Кузьмич, владелец ИЧП " Параскева", находясь в ясном уме и твердой памяти, передаю права на все имущество внуку моему Силе Алексеевичу Мотовилову одна тысяча девятьсот восемьдесят второго года рождения августа двадцатого дня. До достижения моим внуком совершеннолетия в две тысячи третьем году опекуном и доверителем назначаю его отца, то есть моего зятя Алексея Андреевича Мотовилова. В случае развода супругов все имущество ИЧП "Параскева" разделу не подлежит как принадлежащее единственно Силе Алексеевичу Мотовилову.
Примерно так была выправлена бумага, взвалившая на плечи Алекса, двадцатисемилетнего Президента Интернет-провайдерской российско-американской Компании, тяжкий груз из сотен разнородных предприятий, разбросанных по всей Руси.
И как только Егорову удалось нахапать полные руки такого добра?
Ответы и догадки на эти вопросы мог бы отчасти подсказать портрет, что висел на белёной стене. Сходство с Мокием Кузьмичем было разительным.
Сумрачный старик с белой колючей бородой, остриженный в кружок и причесанный на прямой пробор, в халате с куньей опушкой и толстой золотой цепью на груди, сердито смотрел вполоборота влево, опустив на колени руки – руки хозяина, украшенные обручальным кольцом и двумя перстнями.
Изображение было выполнено в манере провинциального семейного портрета, судя по всему, в начале восемнадцатого века; подобных ему характерных живописных полотен немало сохранилось в русских отдаленных музеях.
Художник, как правило, оставался неизвестен.
Секретарша внесла подносы с напитками и угощением.
Событие отметили, уважили.
После этого хозяин попросил удалиться всех, кроме зятя.
Алекс молчал.
Странное ощущение владело им.
Словно из отдаления, со стороны увиделся ему изгиб его собственной судьбы, искривленный стариком Егоровым, изгиб предумышленный, но… но… не петлевой… Это слово закрепило легчайшее ощущение проблемы, чтобы не потерять ее в хаосе повседневности, но отработать в ближайших буднях.
– Что скажешь, зятек? – усмехнулся Егоров. – Нагрузил тебя на десять лет, словно срок дал. У тебя и своя ноша немалая. Потянешь?
Алекс молчал. Трех прекрасных сыновей не назовешь ловушкой, хотя замысел тестя обнаружил себя полностью.
– Справлюсь, – кивнул он.
– Глянь-ка сюда, Алекса.
Образованный человек, министр, Егоров словно снимал с себя весь политес, когда оставался наедине со своими.
Он тяжело подошел к шкафу, просунул руку в щель у стены. Нажал на что-то. Шкаф открылся, обнаружив идущие внутрь-вверх деревянные ступени.
– Ступай, пока не скрипнет. Фонарик не забудь.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь… Седьмая ступенька тихо скрипнула под ногой. Алекс замер.
– Плашечку справа чуешь? Сдвинь.
Алекс ахнул. В тайнике мигал огонек шпионского самописца! Выпускник МГИМО, он понимал в них толк. Эта модель принимала условный сигнал на расстоянии до пятнадцати километров и шифровала на пленку. Одной заправки хватало на полгода.
– Внял, Алекса? Смени на свежую. Спускайся.
Заметя следы, они уселись за стол. Тесть молчал. Глаз его стал дергаться, левая щека перекосилась, в дыхании появились хрипы.
– Таблетки, таблетки, – он неуклюже полез в боковой карман пиджака.
Алекс дал ему запить из бокала. Мокий Кузьмич пришел в себя. Помолчал и заговорил спокойно, как человек, свершивший задуманное.
– Все, зятек. Теперь хочешь-не хочешь, тащить тебе этот воз и приумножать. В тебе я не сомневаюсь. Ты умен, но крылат, легковат для нас, грешных. Не сорвись. Время бежит, дети растут. Так.
Он отдышался и кивнул на плоскую, извлеченную из тайника пластинку с пленкой.
– Это, дружок мой, удивительный материал. Я плачу за него огромные деньги. Потому что в нем содержится досье на все московские и российские криминальные группировки, что существуют на сей момент. Источник готов работать еще хоть сто лет, лишь переводи сумму на его счет. Имея это, мы с Грачом в состоянии оградить себя от любого наезда, не ввязываясь в их разборки. Нас уважают. Недавно машину украденную пригнали обратно, узнав, чья она. Вот так.
Алекс тонко улыбнулся.
– Авторитет-с?
– Бери выше.
Они помолчали. Алекс вздохнул.
– Грачу доверять полностью?
– Да, да. У нас вековые связи.
– А Второму?
– Тут похуже. Он пока не опасен, но может… ох, может!
Старику пришлось выпить еще три пилюли. Он становился плох, и спешил, спешил сказать все необходимое.
– Горизонтальный бизнес, Алекса, рыхл и блудлив, грош цена ему в базарный день. Нужна поддержка, вертикаль. Два-три своих губернатора, место в Думе, свое лобби. Ты и сам высоко летаешь, должен знать. Так. Еще вот что. Десять лет – срок огромный. Ежели лет через пять выдохнешься, земь наша занудит тебя, – передай дело Грачу. Он дотянет, ему в охотку. Так. И последнее. Обещай мне. Все внуки должны получить образование получше вашего. Оксфорд, Кембридж – вот уровень. Все, Алекса. Зови докторов.
Старик Егоров умер дома, в своей постели, не велев везти себя в больницу. Грача просил не оставлять семью, его Верушку. Родственникам наказал не вскрывать тело, предать земле в краях заповедных. В последний час успел исповедоваться своему священнику и отошел с миром.
Если найти место, равноудаленное от Кремля и от храма Христа Спасителя, хотя бы за Москвой-рекой, на Болотной площади, близ "Дома на набережной", то можно понять опасения архитекторов, возводивших в девятнадцатом веке этот храм, как символ мощи Руси и православия.
Это можно понять.
Да, златоглавая махина тяжело перевешивает Кремль. Да, древнее сердце столицы, седые стены, древние палаты и колокольни выглядят отсюда хороводом остроконечных башенок на углах красной зубчатой ограды, внутри которой празднично и невесомо красуются разные постройки, тонко-узорное белокаменье да сияние золотых луковиц.
И все городские окрестности вокруг возведенного Храма также пригнулись в его поле, уменьшились, словно вросли по колено в сырую землю.
А уж название станции метро пора менять на третье, вслед за улицей, потому что "Кропоткинская" напоминает о князе Кропоткине, путанике и путнике в обольстительных дебрях русского анархизма, который ныне, как и Дворец Советов, давно вышел из моды.
Агнесса шла на переговоры в Московскую Патриархию.
У нее была самая благая задумка. В связи с приближением Нового года и Рождества поместить на газетном развороте "Календарь церковных дат и праздников", даже открыть постоянную страничку для верующих всех конфессий, которые действуют в Москве. Нет слов, такие вещи делаются бесплатно и бескорыстно, но раз идея возникла у нее, сотрудницы рекламного агентства, то почему бы не попробовать вначале рекламные средства?
Попытка не пытка.
Сама Агнесса верующей себя не считала, не ходила в церковь и ничего не просила у Бога. Но быть матерью больного ребенка и не веровать совсем – невозможно.
К тому же краткий опыт религиозного просветления у нее был.
Это случилось в прошлом году в такие же мокрень и грипп
Горячая, простуженная, Агнесса сидела на постели и сквозь болезненный туман едва внимала историческому телевизионному рассказу об иконе Владимирской Божьей Матери. В пятнадцатом веке, во время нашествия икону привезли в осажденную Москву. Навстречу ей вышел весь московский люд; на улицах был отслужен молебен.
После этого на следующий день без видимых причин татарский хан отвел войска из-под самых стен и удалился.
Сейчас, правда, считается, что это был не хан, а казак из Орды, то есть, войска, и что никакого татарского нашествия на Руси вообще не было, так, обычные военные разборки и полевые командиры, иначе почему бы татарам бояться чужой иконы?
Но тогда Москва была спасена.
Агнесса смотрела и слушала будто в забытьи, как вдруг в душе, подобно первому, еле слышному, движению ребенка во чреве, шевельнулся светлый завиток. Обратившись во внутренний слух, Агнесса принялась бережно выращивать в себе этот слабенький росточек. Больше, больше. Наконец, заиграли переливами лучи, сноп света озарил каждый закоулочек.
И странно. Не было ни умиления, ни упования, но лишь радость и приобщение, словно там и не хотели ни самоумаления, ни коленопреклонения, но лишь возрастания человека до их светлоты.
Болезнь ослабла.
Под зонтиком от зимнего дождя Агнесса поднялась по Пречистенке.
Старинная улица была неширока и малолюдна, чего не скажешь о машинах, мчащихся от Лужников и Новодевичьего монастыря напрямую к центру. Других звуков, кроме влажных автомобильно-дорожных, вокруг не было.
Вдоль тротуаров струились ручьи, их сильное течение бурлило вокруг ног, когда приходилось пробираться через переулок, из водосточных изгибов крыш вдоль фасадов всех особняков, которыми была богата улица, на головы пешеходов также рушились потоки воды. Чистый переулок был залит водой более, чем любой из встреченных, поэтому обходить его пришлось широким окольным ходом.
Наконец, Агнесса прошла вдоль невысокой зеленой ограды с желтыми шишечками и свернула во двор к строениям, выкрашенным в нежный светло-розовый цвет.
За оградой царила тишина.
Словно и не было вокруг городского шума, гудящей автомагистрали. Здесь покойно стояли темные ели, вдоль расчищенных дорожек лежал влажный белый снег, над дверьми красиво нависали чугунные козырьки с витыми украшениями.
Потянув на себя неширокую, мокрую от непогоды, деревянную дверь, Агнесса оказалась внутри приземистого здания.
Внутри него стояла такая же тишина. Над головой плавными тонкими гранями сходились к вершине низкие закругленные своды, в небольшие окна лился неяркий свет зимнего дня. Она вдруг ощутила всю суетность своей затеи. Бородатый служитель в черном, из простых, надзирающий за порядком, показал ей дверь священника-администратора в одном из боковых проходов.
Из кабинета доносились голоса. Следовало обождать.
В тесноватом коридорчике Агнесса была не одна.
Сюда выходила и другая дверь, возле которой висела табличка: "К преподобному не толпитесь, размещайтесь на стульях в передней." Несколько священников в черном облачении с крестами на груди ожидали (толпились стоя) в почтительном молчании. Это были мужчины солидного возраста, с бородами, давно побитыми сединой.
Среди них выделялся красивый, совсем не старый, грузин с огненными черными глазами, свежим лицом и тоже сединой в смоляной кудрявой бороде, что, как бывает у южан, лишь украшала его мужественную внешность. Они оказались совсем близко.
Он невольно скользнул взглядом по фигуре Агнессы.
Но тут из "ее" двери вышел молодой человек в сутане, и она перешагнула порог.
Кабинет был обширен.
Ей показалось, что его теплое сумрачное пространство было не "обставлено", но было "обжито". За стеклами шкафов поблескивали золотые книжные переплеты, на большом "толстовском" столе с оградкой и зеленой настольной лампой было опрятно и строго.
Суховатый, светло-приветливый человек, отец Владимир, приподнялся навстречу, предложил сесть напротив него, устремил на нее внимательные глаза.
Волнение улеглось.
Просто и толково она развернула перед ним свое коммерческое предложение, подала составленную накануне и набранную на компьютере "Записку…" о том же, и медиа-план с расценками, объемами и сроками. С учтивостью, подобающей месту, поинтересовалась службой "Связей с общественностью" в условиях Патриархии, и выслушала серьезные, чуть-чуть иронические, ответы.
Наконец, беседа окончилась. Отец Владимир поднялся, сделал шаг навстречу ей и двери.
– Я доложу по начальству, – с мимолетной улыбкой сказал он, как бы расставляя точки над чисто-коммерческими переговорами.
– А я, с вашего разрешения, перезвоню вам через неделю, – простилась она.
Оберегая впечатление от беседы с умным, неощутимо-легким человеком, Агнесса вышла за зеленую ограду и дальним обходом, переулками с дивно-старомосковскими именами принялась плутать вдоль старинных особняков, словно по кривым дорожкам, так или иначе ведущим к станции метро.
Через неделю она осторожно напомнила о себе по телефону и услыхала сдержанный, чуть усталый голос.
– Преподобного не было, ничего не известно.
Еще через неделю звонки остались безответными, трубку не брали. Умудренная рекламным опытом, она больше не звонила.
В театральной труппе "Белая звезда" давали премьеру.
"Катя + Гриша = любовь" современного автора Кондрата Рубахина, как обозначил он на афише свой псевдоним. Была его пьеса недлинной, в двух актах, по образу и подобию всех современных спектаклей, которые не рискуют задерживать внимание "новых русских" долее, чем на два часа. На суд зрителя представлялись шумные сцены золотых екатерининских времен, эротические, танцевальные, с простой, но лихо закрученной интригой, с откровенно-грубоватыми, в духе "светлейшего", шуточками и россыпью намеков.
Как сейчас и принято.
И хотя давным-давно можно было говорить, что угодно, автору казалось, что намеки действуют острее, будоража глубинные влечения и либидо каждого зрителя.
Вениамин Травкин был согласен с ним.
Главным затруднением спектакля чуть было не оказались костюмы. Из-за них, этих фижм и камзолов, париков и корсетов грозили обрушиться все творческие находки и осуществления молодой труппы.
А помещение! Аренда, ремонт…
Но репетировали так, будто были приглашены, по крайней мере, во Дворец Съездов
Всю осень на Веньку было жалко смотреть. Он вел стаю вслепую, в полную неизвестность, уповая лишь на то, что работа, как хлеб, сама себя несет. И точно. В последнюю минуту, уже в декабре, за три недели до премьеры у театра появился спонсор.
И какой!
В помещении застучали молотки, зажужжали швейные машинки…
Премьера, премьера!
Виктор гулял по фойе, рассматривая портреты артистов.
Его портрета уже не было. Это понятно. Но изменилось и еще кое-что. Появились новые входные двери, самораздвигающиеся перед входящим, и обивка стен рубчатой синей тканью вместо обшарпанной масляной краски, и пушистые одноцветные ковры под ногами, диваны и многое, многое. Знакомая буфетчица, разодетая в фирменную блузку с вышитой Белой звездой на груди, налила ему коньяку в чистейший фужер, подала черную икру с лепестком сливочного масла, и осетрину первой свежести на мягком ломтике белого батона.
Он вошел в зал после третьего звонка, сел на последний ряд.
Екатерину Вторую играла, конечно, Наталья Румянцева. С тех пор она похорошела и расцвела еще больше, и в этой костюмной роли была неотразима.
Наташка, его Наташка, чужая жена…
А сами костюмы! Даже с последнего ряда бросались в глаза богатые шелковые и бархатные ткани, вспышки драгоценностей на шее и руках. Бриллианты, ясное дело, были поддельными, но от дорогих зарубежных поставщиков. Зато хрустальные бокалы, и, чего доброго, шампанское были настоящими!
И вся пьеса пенилась и кипела страстью императрицы и Потемкина. Браво, Рубахин! Браво, Травкин! Любовь героев казалась настолько искренней, необузданной, отчаянной, словно у них оставался один-единственный миг жизни! Что вытворяли артисты! Как раскручивали действо!.. Но Виктор-то знал, что в жизни сама Наталья на ножах с этим актером – "Потемкиным", что лучшая подруга – "Княгиня Дашкова"– в жизни чуть не отравилась из-за ревности к нему, Виктору, что весь блеск лицедейства и гром аплодисментов не спасет артистов от общественного транспорта, которым они вернутся домой.
Но таков ТЕАТР, божественное искусство!
В антракте он вновь завернул в буфет, выпил коньяку и отправился за кулисы. Ноги сами несли его по знакомым переходам. С бьющимся сердцем прошел коридором, свернул налево, поднялся на несколько ступенек и вдруг увидел всех сразу. Вся труппа в париках и костюмах стояла с бокалами в руках вокруг молодого господина с бородкой, в черном смокинге с блестящими отворотами, и его дамы. В даме, высокой царственной женщине с открытыми плечами, горделивой головой и спокойным взглядом серых глаз он мгновенно узнал Валентину.
Она была в длинном платье удивительной красоты.
– Виктор! Какая встреча! – произнесла она. – Ах да! Ведь это же ваш театр! Налейте ему, друзья!
Виктора затормошили старые знакомые. Он подошел к Наталье, нагнулся к ручке, поздравил с законным браком. Она поблагодарила. Театр!
– Кто это? – негромко спросил Алекс у Валентины.
Брови его слегка подрагивали, он словно ощупывал явление нового лица.
– Это мой сотрудник. Он артист.
– Артист…– произнес Алекс и вновь полоснул взглядом лицо Виктора. – Его фамилия Деревянко?
– Селезнев. Почему Деревянко? – повернулась она.
Виктор сбежал из театра в том же антракте.
Неясное, тяжкое чувство глодало его.
Вот кто стоит за Валентиной! Вот с каким огнем он игрался!
Под морозным ветром, не замечая холода, бежал он по переулку, домой, скорей домой, под защиту своей норы. Неведомым образом этот холеный незнакомец переворошил его, словно стог сена. Чушь, бред собачий, как он может? Виктор злился, вновь и вновь переживая острый, как бритва, взгляд Алекса.
Главный дирижер оркестра отложил в стороны документы и дипломы сидящей перед ним девушки и сделал вид, что задумался. Он знал Ладу еще в консерватории, помнил ее тончайшую музыкальность, и, не колеблясь, пригласил бы ее к себе, но… простит ли зритель? Не слушатель, зритель.
И почему эта девочка никак не осмелится сделать шаг? Как просто все решается за рубежом, там человек в ее положении давно бы расстался со своим изъяном и жил полной жизнью!