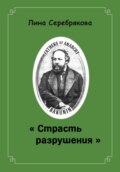Лина Серебрякова
Крепитесь, други!
– Что они себе думают? Их всех гнать надо поганой метлой, а их опекают, как наследных принцев! Посадили на голову до двухтысячного года! Где это видано? Неужели они хотят сделать Черномырдина преемником президента? Кто за ним пойдет? Как ты думаешь, Викентий Матвеевич?
Викентий Матвеевич остужал его как мог.
– Навряд ли. Там просто растерялись. Побираются по всему миру, долгов наделали на сто лет вперед. Боятся, что новая власть поддаст коленкой всему семейству. Что значит "преемник"? Это выборная должность, как народ решит, так и будет.
– Народ, народ… Задурили с экранов, чародеи. Слушай… давай напишем в Кремль, может, прислушаются?
– Обязательно, – хмыкнул Викентий Матвеевич. – Ты ли это, Семен Семенович? Кому нужны наши письма! Там советников пруд пруди. А вот почему Степаныч обещает устойчивый рост экономики к концу века? Мужик ответственный, не с потолка же берет.
– Явлинский говорит, что удач нет. А он часто бывает прав.
Викентий Матвеевич вздохнул.
– По-противному, в белых перчатках, прав. Вроде как предсказать, что алкоголик напьется к вечеру "Видите, я же говорил!"…
Они помолчали.
Навстречу шли собачники, три хозяйки с пятью мелкими собаченками. Спутники остановились, пропустили.
Викентий Матвеевич неловко улыбнулся.
– А что скажешь про историю Клинтона с Моникой Левински?
– Фу. Даже говорить не хочу, – отрезал отставной майор, но в ту же минуту хмыкнул и рассмеялся. – Ему можно. Быль молодцу не укора.
Замолчав, они стали подниматься в горку к оптовому рынку. Там принялись ходить вдоль палаток, набирать в сумки продукты, сравнивая цены с магазинными. Оптовые были ниже.
Ребенок захныкал среди ночи.
Сначала тихо, будто нехотя, потом громче и громче. Агнесса взяла его к себе под одеяло. Он был горячий, с мокрыми волосами. Не открывая глаз, стал карабкаться на подушку и просить-умолять разумным голосом.
– Мамочка, вылечи меня-я…
В семь часов сверху спустилась мать.
Агнесса, в шубе и меховой шапке вышла из дома под холодные яркие звезды. Сегодня, в студеный понедельник, ей были назначены сразу две встречи и обещаны договора в разных концах пригорода. Ехать было не близко, но январь оказался так скуп на заработки, что приходилось использовать любую возможность. Под ногами визжал промороженный снег, на востоке, над ломаными очертаниями домов алела заря; выше нее птичьим крылом разметнулись перистые розовые облака с жемчужно-серыми переливами, и к ним из темной середины неба неслась раскаленная стрела самолетного следа.
Агнесса опустила глаза.
В молчаливой утренней толпе, в смешанном паре дыхания она спустилась в подземный переход, вошла в качающиеся двери станции метро Китай-Город и поехала на Киевский вокзал. За две минуты до отправления успела купить билет, газету, села в раннюю электричку. В полупустом вагоне у окна развернула газету, пробежала глазами две статьи на первой странице.
И помертвела. Отбросила газету подальше на скамейке.
Поздно. Незнания не воротишь.
Первая новость сообщала о взрыве в вагоне поезда метро как раз на ее линии, близ станции Третьяковской. С жертвами, ранеными. Должно быть, о нем сообщали в "Новостях", но Агнесса не смотрела телевизор ни утром, ни вечером.
Вторая новость была еще хуже.
Двое подростков после долгих побоев и издевательств убили третьего, своего одноклассника. Мальчик доверчиво пошел с ними в тот подвал, он так просил о пощаде, не убивайте, меня дома ждут…
Агнесса заломила брови. Эта надолго…
С тех пор как родился ее сын, все события, что бы не происходило в мире, воспринималось ею по касательной к его благополучию, особенно, если страдали дети. По этой касательной тревога настигала ее прежде, чем мысль об опасности, потом бродила, саднила сердце.
Город отступил, за окном потянулись белые поля, холмы с дальними серыми перелесками, ленивым полетом черных галок.
– Тарасовка, – объявили по вагону.
Агнесса вышла.
Отшумев, электропоезд стал умаляться, втягиваясь в дальнюю путаницу железнодорожных проводов, столбов, рельсов. Подмосковная тишь повисла вокруг. Заснеженные сосны и темные ели с сугробами на ветвях стояли сразу за откосами.
От дальнего конца платформы уходила в лес дорога, уродливо разбитая тяжелой колесной техникой на множество продольных ухабов, слева, под деревьями вилась белая тропка.
Агнесса пошла по ней.
Солнце поднялось, день наступил ясный. Согласно пришвинскому календарю, начиналась "весна света", хотя мороз стоял трескучий, редкий для московских зим. Под ногами визжал снег. Повсюду валялись красные, растрепанные птичьим клювом или беличьими зубками, еловые шишки, виднелись следы птиц и мышей, чьи-то похожие на заячьи, на лосиные.
Лесная жизнь доверчиво вершилась вокруг.
Доверчиво… о-о!
Идти пришлось недолго. За деревьями показалась стройка. Фирма строила коттеджи. Четыре дома уже стояли под крышей, два-три достраивались, для следующих были отрыты котлованы. Их грубые суглинки хранили следы жестких экскаваторных зубьев, в днище торчали серые, как обелиски, ряды свай. Рабочий и прораб ходили по краю и делали промеры стальной лентой. Пришлось пожать сизую руку прораба, смотреть в его мясистое красное лицо. Подсобник, совсем мальчишка, одетый не по-зимнему, дрожал на морозе, как щенок, его ученические руки с заусенцами то и дело роняли стальную ленту.
"Запущенный ребенок, – с жалостью посмотрела Агнесса. – Где его мать? Чем он питается?"
На этом объекте сделка сорвалась. Не приглашая в вагончик, прораб объяснил Агнессе, что руководство решило отложить публикацию статей о весенней распродаже домов в виду снижения цен на них.
– Мы вам звонили в пятницу, никто не подошел. Мы не виноваты.
Она промолчала. Звонили, не звонили. Кто церемонится с рекламными агентами!
День разгорелся. Окруженное морозной радугой, солнце накалилось до полного белого сияния, залило землю ярким светом, но без тепла, как бы для самого себя. В застылом лесу между древесных стволов дымно стояли его косые твердые лучи, в которых играли серебристые искры, словно в сказочном снежном королевстве.
Следовало поспешить, чтобы успеть на последнюю перед дневным перерывом электричку. Легко, как спартанка, Агнесса пробежалась по визжащей тропке, мимо шишек, следов, кустов и деревьев, вбежала на платформу одновременно с поездом и вошла в раздвигающуюся дверь вагона. Вновь потянулись широкие белые поля, дальние деревеньки, промышленные пригородные зоны, вновь разлилась саднящая боль.
В Москву она вернулась в середине дня.
Второй адрес был на Ярославском шоссе, близ кольцевой дороги.
И тоже строительный котлован, глубокий, как провал. Далеко внизу еще возился маленький оранжевый экскаватор, было видно, как из его ковша от свежевынутой земли валит на морозе густой пар. Пришлось спуститься туда по длинному-длинному покату, ходить по незамерзающим грунтовым лужам, слушать напористую речь управляющего.
Душа ныла и ныла.
Отсюда, с уровня днища, стены казались высокими, как египетские пирамиды, в них желтели и неровно переслаивались с серыми и коричневыми, слои песка и суглинка, вверху, ближе к поверхности, виднелись остатки белой кладки давно исчезнувшего храма, там и сям краснелись сгустки раскрошенного кирпича, а в углах выработки стояли истуканами молочно-белые комы льда. Возле них с ломиками и кувалдами теснились толсто-одетые женщины в синих, красных, зеленых головных платках, пытаясь отколоть твердые, как камень, ледовые куски. В слепящих по-марсиански лучах солнца от этих пятен заломило виски.
– Кому он нужен, подземный гараж? – не сдержалась Агнесса.
– Подземный-то? – недоверчиво глянул строитель. – Да поверней как будто, подземный-то.
Они поднялись наверх, прошли в жаркую барак-контору.
Вторую нынешнюю неудачу Агнесса сотворила собственными руками. То ли управляющий не простил ее сомнений в полезности гаража и, задетый за живое, раздумал допускать ее к своему детищу, то ли, в самом деле, как объяснил ей, забыл где-то печать, только заполненный договор пришлось оставить на его столе "до завтра", на произвол судьбы без всяких прав и надежд, потому что согласие между Заказчиком и Исполнителем развалилось на глазах.
Короткий день угасал.
Город вновь зажигал фонари. Горячим росчерком загорелась вдали изящная буква "М".
"Домой, домой…"
Она побежала к остановке автобуса.
Окутанный клубами пара, с утеплителем "на морде", автобус высадил пассажиров из заледеневшего салона с лубяными, пушистыми от инея окошками в двух шагах от метро ВДНХ. Вестибюль станции тоже дымился морозным паром, люди, люди, зыбкие, отдельные, закачались вокруг нее.
"Домой, домой…"
Миновали Алексеевскую, Рижскую, Тургеневскую.
Вдруг поезд остановился. За черными окнами проявились стены тоннеля, пыльные ленты электропроводки. Пассажиры молчали. В вагоне быстро сгущалась духота. Сто двадцать человек молча смотрели перед собой.
Постояв перед семафором, поезд двинулся дальше.
…Дома Агнесса учила ребенка драться. Она села на пол, поставила его перед собой.
– Бей! – раскрыла свою ладонь. – Сожми кулаки. Бей!
Но малыш не понимал, он соскучился, ему хотелось играть.
– Бей! – тряхонула его Агнесса. – Я не хочу за тебя бояться. Бей!
…Ночью она проснулась от страха.
Он охватил сердце колючими пальцами, заполз в мысли едким предчувствием. Все казалось гибельным, беспросветным, ее жизнь, ее материнство.
В доме было тихо, ребенок спал.
Страх разрастался.
Агнесса села. Внутренним усилием стала пристально смотреть на этот страх, противостоя темной силе. "Потерявший мужество теряет все" …Понемногу что-то переменилось, стало знакомо, стало "работой" с известным протеканием. Ком напряжения сместился левее, левее и, наконец, оставил ее совсем.
Повеяло свежей легкостью. Агнесса перевела дух.
"Пусть, – подумалось ей, – пусть я не умею жить и никогда не стану богатой, пусть меня испытывают бедой и страхом, но… я смотрю на них, смотрю, и между ними и мной встает мой взгляд. И я права".
Весть об операции Лады разнеслась по всем этажам института с быстротой молнии. Необычайное, почти истерическое, оживление охватило сотрудников. Оказалось, что ее не только, конечно, заметили, но и прониклись сочувствием, даже назвали "Солнышко" за тихость и светлоту.
Чуда, чуда! – взывали истомленные скудной жизнью женские сердца.
Ее стали ждать, как волшебную сказку про Золушку, про золотые яблочки, про царевну-лягушку. Не проходили дня, чтобы кто-нибудь не заглянул в "Каскад" с вопросом "Когда?", так что рекламное агентство поневоле оказалось вдруг в центре такого publik relations, будто на всей планете не происходило ничего более примечательного.
Ждали ее и в самом "Каскаде".
– А вдруг мы ее не узнаем? – предположил как-то утром Максим Петрович. – В самом деле, как она докажет?
Все рассмеялись. Громче всех почему-то Юра.
– Действительно! – воодушевился он и принялся расхаживать из угла в угол, чуть не сшибая подставки с цветами.
С Шурочкиного лица исчезла улыбка.
– Вряд ли что получится, – с сомнением произнесла она. – Как на твои глаза, Агнесса?
Та неопределенно повела плечами. Тряхнув рыжими пружинками, Шурочка повернулась к Юре.
– А ты как считаешь, Юра? – спросила напрямую.
Он остановился, прижал руку к сердцу.
– Ты прекрасна, спору нет.
Но это не убедило ее. Минуту спустя она достала зеркальце и незаметно подкрасила губы.
Наконец, Лада позвонила Агнессе, предупредив о своем появлении завтра, во вторник.
В то утро, пока Валентина вела переговоры в Санкт-Петербурге, Екатерина Дмитриевна осталась за хозяйку во всем агентстве. По своему обыкновению, она прошагала мимо вахтера самая первая, включила везде свет, оглянулась на пустые столы в своей прежней комнате и разложила бумаги на месте Виктора, предполагая провести здесь весь день.
На кабинет Валентины она не посягала никогда.
Самого Виктора уже давно никто не видел, но стол его занимать не спешили, дожидаясь возвращения суперагента, заключившего по телефону легендарный договор на целую страницу без скидки.
Группы ноябрьско-декабрьского набора давно разбежалась, от них остались пять крепких трудоголиков, за которыми догляд менеджера был излишним. На следующей неделе открывалась полоса новых наборов-просеиваний сквозь сито равных возможностей при сдельной оплате труда без единой социальной гарантии.
Благотворением никто не озадачивался.
Следом за главным менеджером с букетом пышных гвоздик, данью признательности Ладе от благодарных мужчин "что бы с нею не стряслось", переступил порог Юра.
И все остальные, в обеих комнатах, собрались гораздо раньше обычного. На женщинах были украшения, праздничные платья. Шурочка, по обыкновению, взялась поливать цветы, но желтая лейка выскользнула из рук, и посередине комнаты на ковре появилось темное влажное пятно.
"Не к добру"– подумалось Екатерине Дмитриевне.
Внизу прозвенел институтский звонок. Все молчали.
… Вдруг издалека, с лестницы по коридору выкатился и стал нарастать комок восклицаний, вскриков, топота, шагов. Ближе, ближе… Дверь распахнулась и на пороге появилась … появилась… ошеломительно-красивая женщина с фигурой Лады, глазами Лады, но не она, не она!
Все оцепенели, все буквально пораскрывали рты.
Вслед за нею ворвался разбуженный рой женщин, все завертелось, закружилось и выплеснулось вон вместе с виновницей переполоха. В комнате воцарилась тишина. Первым опомнился Максим Петрович.
– Фантастика, – произнес он, двигая кожей лба. – Никогда бы не поверил.
И умолк, забыв распустить морщины.
– А на ваш взгляд, Екатерина Дмитриевна? – встрепенулась Шурочка.
Та развела руками.
– Прекрасно, по-моему. Вот только тени немножко под глазами. Пройдет, надо думать, у молодых все проходит.
– И тебе понравилось, Агнесса? – не унималась Шурочка.
Агнесса молча кивнула. Она не сводила глаз с махровых гвоздик, раскинувшихся из массивного цветного стекла на столе Лады. За дверью творилось нечто невообразимое. Женщины словно сошли с ума.
– Неужели Лада? Дайте взглянуть! Покажись, Солнышко!
Максим Петрович взглянул на Агнессу, потом на часы, и потряс за плечо Юру. Сегодня они собирались на выставку Интернета в Экспоцентре. Молодой человек сидел за столом, обхватив голову руками.
– Какая женщина! Я пропал, пропал. Шурка, держи меня крепче!
Шурочка так и вскинулась на стуле.
– Вот еще!
Максим Петрович похлопал Юру по спине, и они уехали.
В комнате остались три женщины. Ладу, судя по всему, захватили надолго, ведь только на втором этаже более десяти комнат. Екатерине Дмитриевне, конечно же, не терпелось обсудить это невероятное появление, повосклицать, услышать и высказаться, но… в комнате царило молчание. Молчание, словно бы ровно ничего не произошло только что на глазах у всего света!
"Не к добру"– снова нахмурилась пенсионерка.
Лада вернулась минут через сорок.
Сияющая, упоенная, в синем платье с тяжелой брошью из янтаря на груди слева, с копной рассыпавшихся светлых волос. Эта неумелая прическа единственная напоминала прежнюю Ладу. Напевая, она обошла мокрое пятно, понюхала цветы своим новым носом и легко опустилась на место.
Наконец-то появилась возможность рассмотреть ее поближе. Екатерина Дмитриевна сменила очки.
Перед нею в профиль сидела юная женщина поразительной красоты. Носик ее был изящно и тупенько вздернут, лицо излучало благородное спокойствие. Глаза, чуть приподнятые к вискам, словно раскрылись, а в линии губ появились нега и прихотливость.
Дивное преображение!
– Лада, – приветливо окликнула ее Екатерина Дмитриевна, – ты замечательно выглядишь. Прими мои самые добрые пожелания и поздравления. Эти цветы от наших мужчин, они рады за тебя и желают тебе счастья.
– Спасибо, – ответила та растроганно.
Екатерине Дмитриевне не терпелось расспросить подробнее, как, за сколько, больно ли, долго ли? но сразу на такие вопросы не задают. Придет время – сама расскажет, и не раз.
Ее подруги неприступно работали, звонили, вели переговоры. Девушка тоже достала какие-то бумаги, разрисовала их завитушками, встала и принялась ходить по комнате, хватаясь то за справочники, то за подшивку газет. Признания жаждала ее душа, праздника, разделенного с ближайшими друзьями!
Женщины переглянулись. Екатерина Дмитриевна замерла.
– Подойди ко мне, Солнышко, – вкрадчиво позвала Шурочка.
Лада готовно приблизилась.
– Янтарная? – спросила Шурочка, всматриваясь в брошь как тогда в магазине.
– Да. Красиво, правда?
Шурочка сокрушенно вздохнула.
– Ты меня, конечно, извини, но ведь у тебя голубые глаза, тебе не идет янтарь. Продай его мне.
Агнесса фыркнула, пригнувшись к самому столу. Лада онемела.
Шурочка торжествующе двинула стулом и удалилась.
Стало тихо. Стало нестерпимо тихо.
Екатерина Дмитриевна боялась поднять глаза. "Женщины, женщины… вот мы, – она чуть не плакала. – Столько любви, столько добра, и вдруг как молния сверкнет жестокость!" Холодно, бесприютно показалось ей в этой комнате с ее кладбищенской пышностью, северной стороной, тусклой метелью за окнами.
"Нет, – вздохнула пожилая женщина, нашаривая таблетки в сумочке, – нет, нет, никаких снисхождений, приходит срок, и ты остаешься один на один с гибельным злом этого мира… – томь, слабость овладели ею. – А я-то думала, мне износу не будет. Нет, нет".
Лада сидела тихо, сжавшись, точно подбитая птица, на лице проступили какие-то тени, пятна, вмятины.
И тут сильным движением поднялась из-за стола Агнесса. В руках ее был гребень и несколько шпилек.
– Не время лить слезы, подруга, одна лужа у нас уже есть, – сказала она, подходя. – Посмотрим-ка лучше твои новые возможности.
И развернула ее стул спинкой к себе.
Для начала она бросила русые пряди наискось через лоб, по шелковистому завитку на каждую щеку. Давние-давние двадцатые годы, первые кинодивы возникли перед глазами. Потом устроила на макушке светлую путаницу и тремя взмахами придала ей очертания камеи, даже перевила алой ленточкой от конфет, найденной в ящике среди кнопок и скрепок.
Стало изыскано и строго.
Затем с помощью резинки свернула волосы в рулик, после чего заколола на затылке конский хвост, напустив на глаза низкую челку. Вот появились косичка, глубокий овал, высокая бальная…
. Лада сидела не дыша, не отводя глаз от зеркала, от волшебной сказки, где за каждым поворотом ждали новые чудеса.
Агнесса творила молча и вдохновенно.
Екатерина Дмитриевна любовалась ею. Все-таки милосердие… это, знаете ли, не пустой звук. Она была очень рада за Агнессу, и за эту девочку, Ладу, тоже, и за себя.
В заключение Агнесса стянула волосы рыхлым японским двойным узлом и с сожалением отошла. Новоиспеченная красотка принялась смотреться в два зеркала сразу.
– А мне прическу? – непримиримо сказала Шурочка, давно уже наблюдавшая их занятия.
– Перебьешься, – кинула ей Агнесса и отвернулась.
Сложив на груди руки, она прислонилась к подоконнику, спиной ко всем, сидящим в комнате. Перед ней, заметаемый мелким снегом, лежал безлюдный переулок с выпирающими углами домов, рытой канавой, глухим бетонным забором. Низко стелились тучи.
Постояв, Агнесса вернулась к столу, убрала все бумаги и уехала.
В феврале Виктор Селезнев искал работу.
Он оставил заявку в театральном союзе, навестил несколько театров и студий. Везде кипели репетиции, ставились спектакли, зрители наполняли залы, но денег было в обрез, проблем выше головы, свои актеры ревнивы и насторожены, поэтому никто ничего Виктору не обещал.
Жизнь его оскудела.
Даже Шурочки не было возле него. Он пытался было заговорить с нею, пригласить, но она стала резкой, как рыночная торговка, и ему пришлось отскочить. Ужасный век, ужасные сердца! Пусть у нее другой мужчина, но нельзя же столь неделикатно! Один, без занятий, скучный и желчный, он валялся с книгой или слонялся в ожидании привычного часа, когда заканчивались спектакли, и артисты собирались в артистическом кафе.
Играть хотелось до чертиков.
Выйти на сцену, в живую темноту зрительного зала! И жить, жить артистизмом, действием пьесы, уверенностью и успехом!
Вместо этого он разыгрывал монологи и куски драматических поэм перед японской кинокамерой и озвучивал, подкладывая фон из чужих аплодисментов.
А вечерами сидел за столиком в "Артистическом" и говорил, говорил.
После десяти часов народу прибывало, с Большой Никитской приходил Парфений, и начинался "большой загул", они "хорошо сидели" до утра, потому что Парфения тоже никто не ждал, он жил в общежитии, и даже не видел свою дочку, родившуюся в конце января. У пригласившего его театра не было ни денег, ни влияния для приобретения квартиры и московской прописки. Чтобы не падать духом, Парфений старался не заглядывать вглубь себя, поддерживал в себе праздничный вихрь, шумел, балагурил, волочился за актрисами. Его снова пригласили сниматься, он разрывался между съемками и сценой, известность его росла.
От этого Виктору было особенно тошно. Уколы самолюбия превращались в пылающие раны.
Однажды за столиком у стены увидел он молодого человека, лицо которого показалось знакомым.
Митяй!
Тот был с дамой, и Виктор лишь приветственно помахал ему рукой. Через полчаса тот подсел к нему сам. Он выглядел очень стильно в светло-коричневом кожаном пиджаке, кремовой рубашке, зеленовато-коричневых брюках.
Тряхнул он сыпучими волосами.
– Привет! Как жизнь?
– По-всякому. Как ты? В рекламе? – поинтересовался Виктор.
– Еще чего? За двенадцать процентов? Дураков нет, ага.
Он вынул из портмоне сто рублей и протянул Виктору.
– Мой должок.
Они налили по рюмочке, выпили, закусили.
– Помнишь, я говорил тебе о ребятах?
– Ну?
– От них и кормлюсь, ага. Даю тысячу баксов, через две недели беру полторы.
– Уже на тысячи счет пошел?
– Скоро на десятки пойдет, без мелочевки. Ага.
– Серьезные ребята, – Виктор посмотрел на Митяя. – Познакомь как-нибудь?
– Познакомлю как-нибудь. Ага.
Митяй попрощался и, покачивая плечами, пошел к своей даме.
"Интересная походка", – привычно заметил Виктор.
В тот вечер Парфений не пришел. У него появилась постоянная привязанность, молодая актриса его же театра, и нынче, по-видимому, у них была ночь любви. Виктор ушел до полуночи, рано лег и проснулся тоже неприятно рано. Навел чистоту в квартире, полил шурочкины цветы. Умылся, вычистил зубы. Все, больше этому дню он ничего не должен, – говоря словами прекрасного современного поэта Веры Павловой.
Что дальше?
"Старею"– скривился желчно, бреясь перед зеркалом.
Поджарил яичницу, выпил кофе.
Дела кончились.
– С собой-то что мне делать? С такой махиной-то как мне быть?
Пространство дня казалось неодолимым.
Придумав купить в ГУМе лезвия "жилетт", он поехал в центр.
И, действительно, накупил мелочей, намозолил глаза наглым ширпотребом, вывалился, глумливо обглоданный торжеством вещей.
Жуть.
И замер перед новеньким храмом, церковью Казанской Божьей Матерью, бело-розовой, с многочисленными кокошниками.
Остановился.
Что с ним происходит? Он не знает, как прожить день, придумывает, как убить время. Время жизни! Вот перед воробьем, что скачет по брусчатке, такого вопроса не стоит.
Дожил, воробью завидую… Потому что меня волнуют высшие вопросы, – привычно вывернул в свою пользу. – "Вся тварь разумная скучает, Иной без дела, тот от дел. Скучай и ты"… Нет, без публики цитаты не убедительны…
Тоскливо оглянувшись по сторонам, на ширину Красной площади, на заснеженные ряды елей под кремлевской стеной, от Спасских ворот до Никольской башни, он свернул в Исторический музей.
Музей открылся недавно после многолетнего перерыва.
В детской памяти Виктора хранились воспоминания об огромном мамонте, волосатом, с бивнями, и о железном шлеме, мече и кольчуге Дмитрия Донского. Его потянуло к чистоте тех впечатлений, к детскому холодку в душе под высокими стрельчатыми сводами, к памятникам русской истории.
Он вошел, поднялся к кассе. Ему выдали красивый билет-сувенир, похожий на открытку с изображением Кремля и Музея, с древнерусскими письменами.
Как и раньше, всюду сновали школьники, водимые заботливыми женщинами-экскурсоводами с нежными материнскими голосами. Экскурсий было много, у каждого стенда. Мамонт исчез, но картина под потолком о древних охотниках, звериные шкуры на их телах, огромный зверь, попавший в яму, впечатляла по-прежнему. На стендах под стеклом лежало множество кремневых наконечников, каменных стрел, грубых каменных ножей, которыми невозможно отрезать хоть что-нибудь без зверских усилий, молотки, долбленая окаменевшая лодка.
Долбленая окаменевшая лодка.
Черная, грубая. Неимоверно тяжелая.
… Всегда тяжела была жизнь на земле, всегда сохранялась запредельным трудом! Его дурацкого вопроса … и подумать стыдно! Они донесли и передали жизнь ему, а он… как же он забыл об этом?
– Проклятые деньги! Я гибну в гнусном безделье. "Сом лупоглазый в тине болотной…" Что делать? Раздать деньги нищим? Спасать себя, спасать, пока не поздно. Спасать, спасать!
Он бродил по залам, в отчаянии от самого себя.
Наружу Виктор вышел с твердым намерением измениться.
Немедленно.
Над площадью светило солнце, пахло весной. Ряды елей вдоль зубчатой стены стояли ярко-зеленые, стряхнув с ветвей утренний снег. Виктор с воодушевлением прошелся по брусчатке, весело оглянулся на башни, на золотых орлов, на золотой крест над новенькой Иверской часовней.
–"Владыко Единый Безгрешный! Воззри со святый небес на нас, убогих, и, хотя согрешили, но Ты прости, и, хотя беззаконие творим, Ты помилуй нас, впавших в заблуждение…"– припомнились слова молитвы калика перехожего из старинной пьесы, что украдкой ставили еще в училище.
Высокое прозрение держалось в нем до вечера, он с подъемом говорил о нем Парфению и друзьям. Все желали ему удачи и пили за его здоровье.
К началу марта, несмотря на все старания, доходы Лады почти не увеличились. Что-то не клеилось в ее рекламных делах, все было рывками, ненароком, случайная сделка, случайный отказ, и все это вне единого делового потока. И вовсе не потому, что на фирмах сидели вредные люди.
Напротив. Свет не без добрых людей. Отказ в просьбе мало радовал противоположную сторону тоже.
– Уж и не знаю, как вам сказать, – мучились и вздыхали на том конце провода. – Директор сказал, что не время брать рекламу. Вы не обидитесь?
Были и забавные случаи.
Молодой управляющий, которому она звонила три месяца подряд, тепло пошутил в очередном разговоре.
– Мы с вами так давно общаемся, что, как честный человек, я обязан на вас жениться.
А однажды она уговаривала на рекламу директора, фирма которого праздновала свой пятилетний юбилей.
– Надо же отметить! Сейчас год за два считается, так все трудно, – улыбалась она.
– Приезжай, отметим, – предложил он.
Новые деньги казались маленькими, курс доллара тоже небольшим, но цены, соразмерно уменьшенные с тысячу раз, кусались по-прежнему. Денег в семье было мало, отец, главный инженер электролампового завода, не зарабатывал почти ничего. Мама, учительница музыки, встав к рыночному прилавку с наборами моющих средств и хозяйственных товаров, кормила всю семью. Иногда, чтобы поскорей распродать мыло и шампуни, она придвигала столик с товаром к потоку людей, спешащих от автобуса к метро и всякий раз грубо изгонялась дюжими молодцами.
– Проваливай, тетка, со своими мочалками! Место куплено!
Та скромная сделочка с фирмой "Фототовары" за свои четыреста рублей принесла ужасные неприятности.
Их рекламка вышла в газете "Городская новь" в среду.
В то же утро в агентстве раздался звонок. Секретарь фирмы, молоденькая девчонка, с которой Лада почти подружилась, гневно сообщила ей, что произошло нечто невероятное. В один из трех телефонных номеров, опубликованных в газете, вкралась опечатка. Это всегда неприятно, но здесь случился полный "улет". Телефон с неправильной цифрой совпал с телефоном наисекретнейшей, наизакрытнейшей службы страны, о которой и знать-то никто не смел! И вдруг туда хлынул поток молодых вопросов о предстоящих пляжных снимках!
Фирму вычислили и потрясли без шума.
– Наш президент требует от вас извинений и бесплатного повтора рекламы в качестве возмещения моральных убытков, – не без торжества закончила секретарша, забыв дружеские отношения.
Газету уже принесли. Лада сверила телефоны в договоре и в рекламе, убедилась в ошибке и стукнулась в кабинет Валентины.
– Валентина Сергеевна, можно к вам?
– Заходи, красавица. Что у тебя?
Лада рассказала. Валентина сделала большие глаза, потом рассмеялась, потом обхватила голову руками.
– Какой ужас! Нарочно не придумаешь! И чего они хотят?
– Извинений и бесплатного повтора.
Валентина задумалась, качая головой вправо и влево, как бы разводя мысленно спорящие стороны.
– Это ошибка газеты, мы тут не при чем. Насчет извинений – сколько угодно, брань на вороту не виснет, а с бесплатным повтором ничего не получится. Ссориться с редакцией я не собираюсь, платить за чужие ошибки – тем более… Сделаем так. Ты принесешь наши искренние сожаления, и в знак раскаяния и доброй воли предложишь неслыханную скидку. Двадцать процентов.
– Но это же обычная скидка, – простодушно возразила Лада.
– Они об этом не знают. Нет? Объясняю. "Только для вас, – скажешь ты, – только ввиду стихийного бедствия и рокового стечения обстоятельств". Понятно? Учись хитрить, девочка, на рынке работаешь.
С тяжелым сердцем Лада поехала на Кожевническую набережную.
На Белорусской шел ремонт эскалатора, пришлось ехать по кольцевой линии, в толчее вокзальных "гостей столицы". На Краснопресненской многие вышли, вагон опустел, но она не села, оберегая от складочек светлое пальто и шерстяное платье, зато набились с узлами и чемоданами на Киевском вокзале. Она стояла в уголке у не открывающейся двери и собирала дань с пассажиров.
Смотрят. Как хорошо!
Раньше в этом была новая мука, а теперь радость. В ее стеснительности любующиеся взгляды выручали и подпитывали уверенностью, без них снова становилось шатко.
Вот смотрит, не отрываясь, молодой военный с одной звездочкой на погонах, вот с мальчишкой-студентом она встретилась глазами, женщины тоже обращают внимание на ее лицо, по-разному, чаще по-доброму… А вот мужчина – пожилой, лет за тридцать, с лысиной – сделал вид, что уступил место тетке с корзинами, приблизился и стал смотреть на нее в упор.
Лада смутилась. Только бы не покраснеть!
Стихи, стихи читать, как молитву.
И любой колени склонит
Пред тобой,
И любой цветок уронит
Голубой.
"Осторожно, двери закрываются, следующая станция Парк Культуры"
Пассажиры стеснились к выходу. Уходя, мужчина коснулся ее рукава и доверительно шепнул на ухо.
– Красивым девушкам очень к лицу улыбка. Советую.
Она вспыхнула. Улыбка, конечно, улыбка! Таинственная, как на Востоке, загадочная, в уголках губ, как у Джоконды. О, счастье! Она окинула вагон смелым взглядом.