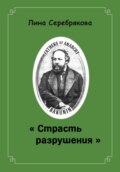Лина Серебрякова
Крепитесь, други!
О-ля-ля! Знай наших!
Бултых! – во все стороны полетели прозрачные брызги. В воду прыгнул мужчина и вмиг очутился возле островка, молодой, носатый, с черной порослью на груди.
– Бонжур! – радостно улыбнулся он из воды.
– Здрасьте, – смешливо ответила она, показав мелкие белые зубки.
– О, по-русски! – воскликнул он, взбираясь на соседний лепесток. – Меня зовут Томá. Я изучаю русскую литературу в Сорбонне. Рад познакомиться.
Шура шевельнула ножкой.
– Очень приятно. Александра, Шура.
Она приняла еще более рискованную позу, увидев в его глазах, что все можно.
– И какие же наши писатели вам нравятся? – спросила, покачивая подбородок на белом кулачке.
Он махнул рукой.
– Моя тема – пролетарские поэты двадцатых годов, они малоизвестны, держу пари, вы о них не слыхали, – его акцент был забавен, как лепет ребенка.
Он придвинулся ближе.
– Вы одна?
– С группой.
– Где же группа?
– В Лувре.
– А что же вы?
– Я… уже была. А вы… парижанин?
– Я снимаю квартиру. Мои родители живут в пригороде, мы владеем землей и выращиваем на продажу овощи и цветы.
– Как цветы?
Шурочка так и села от неожиданности.
Он радостно улыбнулся.
– Вы тоже? У вас грунт или теплица?
К бирюзовым ступенькам они вернулись полными друзьями.
Потом перекусили в баре и долго гуляли по улицам, по вечернему Парижу, в веселой толчее, среди мигающих разноцветных огней, опять что-то ели, пили и целовались прямо посреди улицы. На другой день он пригласил ее к себе, в однокомнатную квартиру, "студио", где спальня, столовая, кухня и даже ванная присутствовали одновременно.
Выгнутые решетки тесного, в два шага, но полного цветов, балкона выходили на мощеную улицу с обшарпанными домами, увитыми плющом и виноградом. Центр города был не близко, но у Тома был свой жучок-автомобильчик, зеленый разрисованный "рено" как раз на двоих.
И здесь, вдали от всего привычного и надоевшего, началась восхитительная экскурсия Шурочки во французский "art-amour", роскошное любовное служение женщине, игры и ласки великой школы, сладостные уроки французского друга. А его… его она воспламеняла распаленной и неуемной русской страстностью, ночи напролет, с глотком вина в перерывах, но ни-ког-да! – тут Шурочка была строга и целомудренна, – никогда при свете дня!
Игорь если и вспоминался, то мстительно и с насмешкой, она просто перекинула, как бывает в юности, любовное покрывало с одной головы на другую.
Зачем эти вечные трагедии?
Тома был истинный кавалер.
Он приглашал ее и в театр, и даже в ресторан, но Шурочка боялась своего застольного неумения и отказывалась. Страх опозорится перед иностранцами вообще доводит наших соотечественников до обморока, из-за него наши люди или вовсе отказываются от увеселений, или впадают в крайности излишеств и купеческого разгула. Поэтому Шурочка питалась в отеле, среди своих, где, кстати, было за все заплачено.
И все же она немножко оконфузилась в кафе, куда ее затащил Тома.
Седой скрипач с пышными бакенбардами, узнав, где ее родина, стал исполнять "Калинку" возле их столика, и, не зная, как вести себя в этом случае, Шурочка вежливо поднялась и немножко сплясала для всех, поводя плечами.
О, что тут поднялось!
Излишне упоминать, что она вычистила до блеска странную "студио", но главное, она далеко упрятала свою стервозность, была проста, мила и заботлива. Она даже побаловала Тома борщом и голубцами в сметане.
Тот был счастлив.
В один из дней он привез ее к родителям. Она вошла в прекрасный двухэтажный дом с верандами и мансардой, полный красивых вещей, с низкими цветочными вазами на ступеньках, с винным погребком. Ей показали хозяйство " с европейской технологией". Намеками, не раскрываясь, она дала понять, что знает в этом толк и владеет таким же.
Тома со страхом ожидал окончания ее путевки.
– Мы поженимся в России, – мечтал он. – В начале августа я приеду в Новгород на Славянскую конференцию и увезу тебя в белой фате.
Она вздыхала от счастья.
Если бы знал доверчивый Тома, какие исследования его личности, вкусов и привычек, склонностей и привязанностей, даже границы, до которой он уступает, предприняла она за короткое время среди утех и поцелуев! – он был бы поражен их точностью. Третий мужчина не должен был сорваться.
Обжегшись пару раз, Шурочка твердой рукой вела дело к венцу, не давая страсти ослепить себя.
В конце июля Алекс и Валентина появились на Селигере.
Валдайское лето уже успело пропечь зеленый край ярким зноем, при котором на лесных опушках и вокруг полей закраснелась земляника, и от которого до самых глубинных придонных ключей прогрелись цепочки озер, и посечь грибным частым дождичком, при солнце и радугах, и даже возмутить спокойствие боковыми вихрями московского смерча, от которого полегло и благополучно поднялось нежно-зеленое поле льна, то самое, похожее на море полосами чуть разнящихся, светлых и темных, оттенков; в нем скоро добавился новый цвет, россыпь мелких голубеньких пятилистников в частых-частых рядках.
Дивно.
Вершина лета отошла
Припустили холодные дожди, еще не осенние, но упорные, затяжные. Приехав в ненастье, москвичи два первых дня гуляли под зонтами, жили без часовых стрелок в сумрачных длиннотах дня и просто отсыпались под объемный шорох дождевых капель по мокрой листве. Сверху лило, как из ведра, над озером висели низкие тучи, прекрасные виды затянуло туманом, и лишь хвойный бор на длинном мысу белёсо проглядывал с того берега сквозь дождливую пелену. Шум всегда смирного озера казался неправдоподобно грозен, а волны его, косматые, желтые от песка, обрушивали на глыбовые завалы пирса ту же непонятную для скромного водоема сердитую пенистую ярость.
"Глубина поднялась,"– говорили местные.
Наконец, просветлело.
Открылись лесистые увалы, над ними далеко и ровно повисли пухлые облака. Льняное поле постояло-постояло под солнцем и отцвело. Деревенские готовились дергать лен и класть в валки, чтобы холодные августовские росы пали на них и превратили в волокнистое северное золото.
Но пока ночи стояли теплые.
На западе раскаленно алел долгий закат, чуткое молчание дрожало над водой. Рассвет входил, как нечаянная радость. В блеске утра и ясного бледного неба над верхушками сосен, снизу доверху поросших сероватым мхом, весело проглядывали теплые солнечные лучи.
Они поселились в том же затерянном в лесах пансионате, что и в прошлом году, в двухэтажном коттедже.
Алекс еще прихрамывал. В тот ураган он успел сгруппироваться при ударе и перевороте, но лодыжку все же растянул.
После ураганной карусели вниз головой семь человек, словно раки, выползали на четвереньках из окон и дверей перевернутой машины, из-под добротной джиповой комплектации в виде сидений, ковриков, канистр и всего прочего, которая завалила их с головой. Будто на стендовых испытаниях в условиях опрокидывания, на славу сработали пристяжные ремни и защитные шлемы. Они избежали, можно сказать, двух смертей сразу, и все же первое, что сделал почти каждый, выбравшийся из машины – ощупал лицо. Не порезано ли?
В целом на круг оказались: один закрытый перелом предплечья, одно подозрение на трещину в позвоночнике, один вывих лодыжки и левой кисти, и бесчисленные ушибы спин, коленей и локтей. Сейчас Алекс терпеливо разрабатывал поврежденную стопу, заставлял себя играть в теннис, бегал по утрам, плавал на мыс и обратно.
Охраны на этажах, тех прошлогодних молчаливых стражей в камуфляже, почему-то не было, не попискивала круглосуточная связь, да и машин-иномарок не было видно. Лишь один-единственный раз появился Грач, с чем-то поздравил Алекса, и тоже уехал.
В остальном все было без изменений.
… Менялся сам Алекс.
Здесь, на Селигере встретил он тридцать третий год своего рождения.
На некоторых людей возраст падает как приговор. Что ни говори, а лучшая половина жизни прожита. Что успел понять, насколько состоялся?
Алекс полюбил уединенные прогулки, поплавок в голубой ленивой воде. Раньше у него на это времени не было. В тихие часы утренней зорьки, когда сон еще объемлет оба берега, а по воде неслышно расходятся круги от играющей рыбы, далеко и неподвижно стояла на середине озера его низкая остроносая лодка с пеньком человеческой фигуры, едва заметная в легких туманах, влекущихся после растаявшей ночи.
Рыбацкое счастье не баловало Алекса, ни разу не проявила интереса к его возвращению умная местная кошка.
– О чем ты думаешь, Алекс? – спрашивала Валентина по его возвращении.
– О себе, – не сразу отвечал он, покуривая сигару в кресле-качалке на светлой веранде второго этажа. – Посидишь в тишине на зорьке и, того и гляди, поменяешь мировоззрение…
Алекс уже поменял его. Он исподволь готовил Валентину.
Он уже не был президентом Компании. Это было громкое событие! Уход его встретил полное непонимание американских партнеров и совместного руководства, и он тоскливо готовился к неизбежным тупым вопросам.
– Вас пригласила другая Компания, мистер Мотовилов? Скажите ваши условия, и мы изыщем средства, втрое превышающие те, что предлагают наши конкуренты. Если, конечно, это не " Microsoft " Билла Гейтса.
– Нет, нет, – с вежливой улыбкой отвечал подтянутый, элегантный мистер Мотовилов, своим светлым умом так славно воплощавший Президента Компании. – Я вообще оставляю бизнес.
– О, так вы идете на государственную службу? Это другое дело! Очень уважаемо, очень престижно! В Америке многие поступают подобным образом. Это путь в сенаторы и даже… в президенты! Очень, очень осмотрительно, господин Мотовилов!
И только родные "лицейские" ребята, взрослые мужи, умудренные крутой стремительной деловой жизнью, дорогие мальчишки, ближе и доверительнее которых не было у него в целом свете, молча обнялись с ним в кружок, голова к голове. Вечером в родном его доме, у матери, скромной учительницы немецкого языка, был вечер "Великого решения".
Пили и, конечно, пели Серегу Есенина.
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне…
– Ты хоть в Переяславль-Залесский заскочи напоследок, Алекс, – говорили ребята. – Подузнай, что и как.
– Я уже был там. Наведаюсь еще разок.
В том заштатном городишке "быстрые разумом Невтоны" российские уже подключали пользователей к Интернету вне телефонных сетей. Это сулило новый взрыв интереса к WWW, прибыли и рекламную гонку (для Валентины).
– Еще споем? Вот эту:
Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилица,
Люблю, когда на деревах
Огонь зеленый шевелится.
То сучья золотых стволов
Как свечи, теплятся пред тайной,
И расцветают звезды слов
На их листве первоначальной…
– Скажи, Алекс, у тебя есть… ну, не план, конечно, а хоть какие-то мысли о дальнейшей жизни?
– Когда я стану свободен, все получится само собой. Я, наконец-то, имею право быть один. Как пел когда-то Борис Гребенщиков:
"У меня есть Я,
И я хочу быть с Ним".
Ребята кивали. Конечно, Алекс обеспечил семью, и мать, и себя, он долго не позволял себе "ответить на зов". "Великое решение" состоялось. В добрый час!
– Давайте, ребята, последнюю песню, любимую. Где гитара?
Устал я жить в родном краю,
В тоске по гречневым просторам,
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором.
Пойду по белым кудрям дня
Искать убогое жилище.
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.
Весной и солнцем на лугу
Обвита желтая дорога,
И та, чье имя берегу,
Меня прогонит от порога.
А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам…
А Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора.
…Грач приезжал с победным известием об очередном успехе на выборах.
Третий губернатор был поддержан и избран не без помощи "Параскевы". Борьба шла грязная, нечестная, но спиртовые заводы и предприятия по нефтепереработке, на которые сразу клюнул прошлой осенью глава края, и которые с неукоснительной точностью поставил Роберт Кофман, уже давали продукцию, рабочие места и многие приятные для региона последствия.
Во-вторых, расстарался и Виктор Селезнев. Алекс просмотрел запись его концерта.
Очень и очень!
…Вначале, разогревая публику, в главном концертном зале краевого центра, выступали сельские и городские самодеятельные ансамбли. Губернатор, крупный мужчина, твердая властная рука, сидел в первом ряду и вежливо хлопал всем. В зале виднелись сплоченные ряды и его соперников, местные воротилы. Телевидение снимало все подряд, до выборов оставались полторы недели.
И вот под самый конец, в заключение, в наивыгоднейшее концертное время, когда в памяти разгоряченного зрителя только и останется, что последнее выступление, на сцене поднялся еще один занавес.
Два приятеля, одетые в камзолы восемнадцатого столетия, в париках, неспешно вышли из глубины. Старинным слогом и старомодной веселостью, подстроив реплики под местные события, они заговорили языком два века назад забытого "Бригадира", пьесы Фонвизина.
Зрители насторожились. Стало смешно.
Дальнейшие реплики шли под аплодисменты и сплошной хохот зала.
И вдруг прокричал петух.
Тут же разбойничий свист разорвал воздух, свист тот самый, Соловья-разбойника, когда "травушки-муравушки уплетаются, лазоревы цветочки осыпаются". А на зрителя, храпя и разбрасывая клочья пены, помчалась русская тройка, объемная, огромная!
Вот это спецэффект! А ямщик-то кто? Батюшки, сам губернатор!
За ними, вися, волочась, откатываясь, – разбойники! И колокольцы-бубенцы, и песня, местная, знакомая до печенок, и вихрь танца вывернули душу, схватили за сердце. Эх, ты, удаль молодецкая, вековая-безоглядная!.. Вдруг все стихло. По сцене, размышляя о делах района, вновь стали прогуливаться те двое в париках, а с ними и действующий губернатор края.
Успех был оглушительным. Зрители вскочили с мест, кричали, вызывали артистов.
И губернатора.
Грачу тоже понравился тот концерт. Он видел его воочию.
– Потом его крутили чуть не каждый вечер, аж рекламы не хватало, кассеты продавали на каждом углу. А Витька носился по всему краю, как ястреб, показывал, зарабатывал. Удалой мужик! Всех забил. Жалко, на экране все бледнее, мельче как-то, в зале-то нас до костей пробрало. Талант! Что с ним делать, Андреич?
– Отпусти на все четыре стороны. Он себя показал, теперь его подхватят. Мало ли выборов впереди…
Грач молча смотрел на Алекса. Силен, спокоен, в чем-то уверен. Куда уходит?
– Давай прощаться, Алексей Андреевич. Мне будет не хватать тебя. Что-то понял я в тебе, доверие имею. Давай тебе Бог!
Они обнялись.
– Счастливо оставаться, Василий Петрович. Еще встретимся. Гора с горой, как говорится…
– …а человек с человеком всегда сойдется. Однако ведь и родство у нас с тобой имеется. Верушка-то моя вновь на сносях… Авось, сына дождусь.
– В добрый час.
Ягодный сезон почти отошел, начались грибы.
В ближайшей деревне, пустоватой, опрятной, с резными наличниками, кружевными занавесками, цветами на подоконниках, для Валентины взялись засолить три ведра и насушить связку белых грибов.
– Черники не желаешь, дочка? Варенье будет ягодка к ягодке. Для зрения помогает.
– Да, и варенье тоже. Как вам живется?
– Скучно. Только и света, что летом, когда вы все приезжаете. Из молодежи на зиму никто не остается, работы никакой. Старики одни. Так одиноко, так одиноко, и поговорить не с кем. Выйдешь на берег, снега, снега.
– А телевизор?
– От него только глаза болят. Человеку человек нужен.
Из этой деревни приносили к общей гостиной ягоды и свежую зелень, вкусный творог, пирожки и ватрушки, мужички предлагали горячих копченых угрей, щук, лещей и подлещиков.
Валентина отдыхала всей душой.
Им было хорошо вдвоем. Их страсть достигла полноты, они словно взлетали, растворяясь друг в друге. Иногда, глядя на спящего Алекса, она ощущала себя неизмеримо старше него. "Это материнское"– отгоняла она. Ей хотелось быть просто любимой женщиной.
Как он красив! Как соразмерен! Точно, как царский сын, избранник!
О кризисе говорили много.
– Это будет очищение, – говорил Алекс, покачиваясь в кресле. – Первыми упадут крупные банки-паразиты, затем иностранцы. Так, Роберт Кофман наверняка закроет представительство, а все совместные наработки останутся в России. Если делать все точно и жестко, без наглого воровства, наступит благоприятное время для отечественного производителя. Доллар подорожает и станет относительно недостижим, все расчеты вернутся к рублевому исчислению.
– А как же цены?
– Взлетят, разумеется, но не вдогонку, пониже.
– А народ?
– Народ безмолвствует. Мы столь неистово наслаждались своими страхами и надеждами в течение последних веков, что сейчас отдыхаем. Как только каждый ощутит, осознает самого себя на этой земле, все изменится в одну ночь. Ничто его не остановит.
Обнимая его, Валентина опустила руки ему на грудь, под рубашку, ниже.
– Что будет с рекламой?
Ей хотелось, чтобы он поработал и для нее тоже, прежде чем изменится настрой этой минуты.
Он повернул лицо, коснулся губами ее губ. Развел ее руки, вздохнул и поднялся.
– О делах поговорим на яхте. Оденься поскромнее, в платочек, длинную юбку. Мы плывем на дальний остров, через два водоема в ожерелье Селигера. В мужской монастырь.
– Ты им помогаешь?
– Им все помогают. Разруха несказанная. Поспеши, яхта на плаву.
Они спустились по влажной неровной тропинке к пирсу. На воде, покачиваясь и отражаясь в волне полированными боками, стояло довольно крупное судно, напоминающее парусные гоночные суда прошлого века.
. Валентина помнила ее с прошлого года
–"Улыбка". Похожа на антиквариат, да, Алекс?
– Так оно и есть. Когда-то на подобной ей ходил страстный яхтсмен, знаменитый русский дипломат Горчаков, член всех европейских яхтклубов. А воспроизвел ее с точностью до деревянной заклепки его внук, Коля Горчаков, мой друг по МГИМО, тоже классный яхтсмен. Уже четвертый год, как он передал ее мне на пользование и бережное хранение до своих лучших времен. Классная посудина. Редкостное дерево, полировка, тщательность швейцарских мастеров.
Валентина с интересом выслушала его и промолчала. Под белым косым парусом, меняя галсы, они бесшумно и быстро заскользили по водной глади. По обеим сторонам сходились и расходились зеленые хвойные берега, поросшие светлой корабельной сосной.
– Кажется, я могу дополнить для тебя историю семьи Горчаковых, – проговорила она задумчиво, держась рукой за канат и глядя в небо.
– Каким образом?
– Несколько дней назад моя сотрудница Агнесса, из дворянского рода Щербатовых, венчалась с Николаем Горчаковым в Елоховской церкви, после чего он увез ее в Швейцарию.
– Агнесса Щербатова? Мне известно это имя, – для Алекса в этом сообщении было несколько уровней сразу. – Мой бедный Вертер – Роберт Кофман! Он будет безутешен! Рад за Николая.
Валентина сменила тему.
– Но вернемся к нашим баранам. Что будет с рекламой, Алекс?
Алекс сразу переменился, в глазах появился тоскливый блеск.
– В посткризисной рекламе ничего хорошего ждать не приходится, – ровным голосом заговорил он. – Сократятся тиражи, почти исчезнет газетная подписка. Суди сама, какой интерес твоим клиентам вкладывать туда деньги? Зато могут остаться без присмотра целые участки, ныне принадлежащие крупным иностранным агентствам. Автомобили, связь. Особенно связь. Да твои щиты. Поэтому смотри в оба. Действуй быстро, агрессивно, поспеши, пока не поздно.
– Они вернутся?
– Без сомнений. Не те, так другие. Рынок-то бешеный. Делить прессу станут иностранцы либо наши через подставных лиц. Так делается во всем мире. Самодеятельность закончена, ты успела, и слава Богу.
Алекс развернул парус.
– Главное в другом. В грядущие два года развернется звероподобная предвыборная схватка. Всё превратится в еду. Но если встать над ними, быть всевидящим и всеслышащим, иметь доверительную информацию со всех сторон и продавать ее по назначению в столицах и в регионах… эта игра может у тебя пойти. Скоро освободятся очень толковые ребята – газетчики, советчики, помощники, шептуны, с их связями можно вить веревки из любого депутата.
Она шевельнула бровями. Алекс продолжал.
– И еще. Мои друзья из Аналитического Центра станут снабжать тебя информацией. Они предупреждены, но советую заключить с ними договор.
– Разве твоего слова недостаточно?
– Делай, как я предлагаю.
Алекс не решался ранить Валентину, открыть ей свой уход.
Она обеспокоилась. Это из-за кризиса, подумалось ей, конечно, из-за него. Экономический кризис – не шутка.
– Нам не следует тут задерживаться, – поежилась она зябко.
– Согласен.
– Уедем через два дня.
На другой день, очень мягко, умно и очень просто, Алекс посвятил Валентину в перемены в своей жизни.
Она поняла.
Она отпустила его также мягко, умно и просто. Но уехала первая, на поезде из Осташкова.
В отдельном купе легла лицом в подушку и проплакала всю ночь.
Со дня открытия "Каскада" прошел ровно год.
Вечером четырнадцатого августа Валентина сидела за столом в своем кабинете. Вместе с Екатериной Дмитриевной они вспомнили "старое доброе время", чудо первых договоров, подняли по рюмочке за прошлые и будущие успехи. Кроме нее, честной верной соратницы-сотрудницы, из прежнего состава не осталось ни одного человека.
Последним ушел Максим Петрович. То ли нашел место повыгоднее, то ли, по мнению Екатерины Дмитриевны, не перенес разлуки с Агнессой, Бог его знает! Сама Агнесса прислала поздравительную телеграмму из Швейцарии. Юра поступил в МГУ сразу на два факультета. В составе оркестра уехала на гастроли арфистка Лада.
А Шурочка на прошлой неделе вышла замуж.
Валентина и Екатерина Дмитриевна были у нее на свадьбе в Тайнинке. В подарок, по просьбе невесты, привезли стиральную машину. Было шумно и бестолково. Томá, горбоносый черноволосый француз, ростом чуть выше Шурочки, казался испуганным убогостью обстановки и обилием бедных родственников.
Но началось застолье, полилась русская водка, все сравнялось.
Щитовая реклама привилась. За нее ухватились местные округа, насыпали в нагрузку социальных объектов, все стало солиднее, цены поднялись. Валентина стала своим человеком в городской Мэрии. В агентстве с "наружкой" работали сорок три человека. Конечно, Екатерине Дмитриевне это не в подъем, ей бы справиться с газетной и журнальной рекламой, но, по мысли Валентины, еще чуть-чуть и высококлассных и недорогих менеджеров появится в избытке, хоть пруд пруди.
Свекор с таблицами и графиками на руках показал ей, что следующей недели рынку не пережить.
Час Икс приближался.
Сегодня, четырнадцатого августа тысяча девятьсот девяносто восьмого года, в пятницу, Валентина задержалась в своем