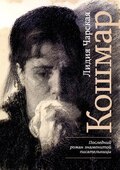Лидия Чарская
Люда Власовская
Глава VIII. 17-й номер. – Недавнее прошлое
В институте было двадцать номеров музыкальных комнат, или силюлек, как мы их называли. Часть их была позади залы, часть – в нижнем темном коридоре, неподалеку от лазарета и по соседству с квартирой начальницы. Они помещались одна над другой в два этажа, и из нижних силюлек в верхние вела узенькая деревянная лесенка. В нижних силюльках, «лазаретных», давали уроки музыкальные дамы, в верхних, «зазальных», воспитанницы занимались самостоятельно. Окна всех силюлек выходили в сад, прямо на гимнастическую площадку, находящуюся перед крыльцом квартиры начальницы.
Я вошла в 17-й номер, не ощущая никакого страха, и открыла окно. Струя свежего сентябрьского воздуха ворвалась в крошечную комнатку, где могли поместиться только старинный рояль с разбитыми клавишами и круглый табурет перед ним. Потом вынула из папки толстую тетрадь с упражнениями, положила ноты на пюпитр и, придвинув табурет, уселась за рояль.
Газовые рожки, вделанные в стену, ярко освещали крошечный номер. Из соседнего 16-го номера слышались гаммы, старательно разыгрываемые чьей-то нетвердой рукой под монотонное выстукивание метронома. Это Раечка Зот, рябоватенькая худосочная блондиночка, разучивала музыкальный урок к следующему дню.
Скоро и верхние, и нижние силюльки огласились самыми разнообразными звуками; получилось какое-то немыслимое попурри. Одна воспитанница играла гаммы, другая – упражнения, третья – пьесу, и все это сопровождалось громким отсчетом на французском языке и стуком метронома.
Свежий осенний вечер окутал сад. Деревья, еще не полностью лишенные осеннего убранства, казались волшебными гигантами, протягивающими неведомо кому и неведомо зачем свои гибкие мохнатые ветви-руки… Луны не было. Только звезды, частые золотые звезды весело мигали с неба своими огоньками, ласково заглядывая в окно силюльки. Они словно притянули меня к себе…
Остановившись на полутакте, я вскочила с табурета, подошла к окну и стала с жадностью вдыхать свежую струю чудесного, чистого вечернего воздуха.
Я не могу равнодушно смотреть на звезды. Как только я остаюсь наедине с ними, они навевают моему воображению милые, далекие картины моего детства… И сейчас эти картины встали передо мной, сменяясь, появляясь и исчезая, как в калейдоскопе. Жаркий июньский полдень, такой голубой, нежный и ясный, какие может дарить только самим Богом благословенная Украина… Вот белые, как снег, чистые мазанки, утонувшие в вишневых рощах… Как славно пахнут яблони и липы!.. Они отцветают, и их аромат сладко дурманит голову… Я сижу в огромном саду, окружающем наш хуторской домик… Рядом со мной чумазая Гапка – дочь нашей стряпки Катри… Она жует что-то, по своему обыкновению, а тут же на солнышке греется дворовая Жучка… Я сижу на дерновом диванчике и сладко мечтаю. Я только что прочла историю о Крестовых походах, и мне не то грустно, не то сладко на душе, хочется каких-то подвигов, молитв, смерти за Христа…
Вот раздвигаются ближайшие кусты сирени, и еще молодая, очень худенькая и очень бледная женщина с огромными выразительными глазами, всегда ласковыми и всегда немного грустными, появляется, словно в раме, среди зелени и цветущей сирени.
– Мама! – говорю я… И ничего больше не могу сказать, потому что язык немеет от жары и лени, но глаза договаривают за него…
Она присаживается рядом со мной, и я прошу ее поговорить о моем отце. Это мой любимый разговор. Отец – моя святыня, которую – увы! – я едва помню: когда он умер, мне было только около пяти лет. Мой отец – герой, его имя занесено на страницы отечественной истории вместе с другими именами храбрецов, сложивших свои головы за святое дело. В последнюю турецкую войну отец мой был убит при защите одного из редутов под Плевной. Он похоронен далеко, на чужой стороне, и нам с матерью даже не осталось в утешение дорогой могилы…
Но зато нам оставались воспоминания об отце-герое. И мама говорила, говорила мне без конца о его храбрости, смелости и великодушии. И Гапка, разинув рот, слушала повествование о покойном барине, и даже Жучка, казалось, навострила уши и прислушивается к нашей беседе…
Скоро к нам присоединилось прелестное кудрявое существо с ясными глазенками и звонким смехом – мой маленький пятилетний братишка, убежавший от надзора старушки-няни, вырастившей целых два поколения нашей семьи…
Какие чудные это были беседы в тени вишневых и липовых деревьев, вблизи белого, чистенького домика, где царили мир, тишина и ласка!..
Но вот картина меняется… Я помню ясный, но холодный осенний денек. Помню бричку у крыльца, плач няни, слезливые причитания Гапки, крики Васи и бледное, измученное дорогое лицо, без слез смотревшее на меня со страдальческой улыбкой… Этой улыбки, этого измученного лица я никогда не забуду!
Меня отправляли в институт, в далекую столицу… Мама не имела возможности и средств воспитывать меня дома и поневоле должна была отдать в учебное заведение, куда я была зачислена по смерти отца на казенный счет.
Последние напутствия… Последние слезы… Чей-то громкий возглас среди дворни, провожавшей меня – свою любимую панночку… И милый хутор надолго исчезает из глаз…
Потом прощание на вокзале с мамой, Васей… Отъезд… Долгая дорога в обществе нашей соседки по хутору, Анны Фоминичны, и, наконец, институт – неведомый, страшный, с его условиями, правилами, этикетом… И девочки, множество девочек…
Я отлично помню тот час, когда меня, маленькую, робкую новенькую, начальница института ввела в седьмой, самый младший класс.
Вокруг меня любопытные детские лица, смех, возня, суматоха… Меня расспрашивают, тормошат, трунят надо мной. Мне нестерпимо от этих шуток и расспросов. Я, словно дикий полевой цветок, попавший в цветник, не могу сразу привыкнуть к его великолепию. Я уже готова заплакать, но вот предо мной появляется ангел-избавитель в лице черноокой красавицы, грузинской княжны Нины Джавахи… Я как сейчас вижу пленительный образ двенадцатилетней девочки, казавшейся, однако, много старше, благодаря не по-детски серьезному личику и рассудительному тону речей. «Не приставайте к новенькой», – кажется, сказала тогда девочка своим гортанным голоском, и с той минуты, как только я услышала первые звуки этого голоса, мне показалось, что в институтские стены заглянуло солнце, пригревшее и приласкавшее меня. Я и Нина стали неразлучными друзьями. Если бы у меня была сестра, я не могла бы ее любить больше, чем любила княжну Джаваху… Мы не расставались с ней ни на минуту до тех пор, пока… пока…
Я так и вижу тот ужасный, мучительный день, когда она умирала от чахотки… Я никогда, никогда не забуду его…
Это до неузнаваемости исхудавшее личико с двумя багровыми пятнами румянца на щеках, с огромными глазами будет вечно стоять передо мной… Я никогда не перестану слышать этот за душу хватающий голосок, шептавший мне, несмотря на страдания, слова нежности, дружбы и ласки… Господи! Чего бы только не сделала я тогда, чтобы отвести удар смерти, занесенный над головой моего маленького друга!..
Но она умерла… Все-таки умерла, моя маленькая черноокая Нина!..
Мне остался только дневник покойной, все ее недолгое отрочество, записанное в красную тетрадку, да фамильный медальон с портретом Нины в костюме мальчика-джигита.
И день ее похорон я тоже никогда не забуду… Ясный весенний солнечный день, роскошный катафалк под княжеской короной, белый гроб с останками княжны и статного красавца генерала – отца Нины, с безумным взглядом шагавшего впереди нас за гробом дочери на монастырское кладбище. Он не застал Нину, которую любил до безумия, в живых…
Новая картина… Новые впечатления. Внезапный приезд мамы за мной перед летними каникулами… И Вася с нею! Сумасшедшая радость свидания… Поездка в Новодевичий монастырь на могилу Нины и неожиданный визит ее родственника князя Кашидзе, явившегося к нам в номер гостиницы перед самым нашим отъездом. Он привез сердечную благодарность князя Георгия Джавахи, отца Нины, благодарность мне за мою беспредельную любовь к его дочери…
Затем отъезд из Петербурга, радостный, счастливый, под родное небо милой сердцу Украины…
Лето – дивное, роскошное… С прогулками в лес, с вечным праздником природы, с соловьиными трелями, с заботливой любовью мамы, с ласками Васи, няни…
Не то сон, не то действительность… Зачем он промчался так скоро?..
Снова осень… Институтки, начальница, учителя, классные дамы… И тоска, тоска по своим…
И вот она – новая подруга – пылкая, необузданная, экзальтированная девочка с рыжими косами и восприимчивым сердцем. Она никогда не заменит мне моего усопшего друга, но она мила и добра ко мне, и я люблю ее, люблю горячо, искренне! Меня, впрочем, любит не она одна. Меня любят все и балуют как могут. Я нахожу второй дом в институте, сестер – в подругах, заботливую попечительницу – в лице начальницы…
Я способна, послушна, толкова… Я – первая ученица, я – представительница класса и его надежда… Счастье улыбается мне…
И вдруг снова ночь, пустыня, мрак и ужас!.. Та, кто была бесконечно дорога мне, для кого я старалась учиться, для кого отличалась в прилежании и поведении, – той не стало…
Мама умерла так неожиданно, что это тяжелое событие стало кошмаром моей жизни… Брат Вася заболел крупом, и мама заразилась от него. Это было в год моего перехода в четвертый класс. Я получила печальное известие только через неделю – письма с Украины идут долго. Три дня проболели мама с братом, и оба скончались в один и тот же день… Это было мучительное, страшное горе… Самым ужасным было то, что я не увидела их в последние минуты…
Я помню день, когда Maman прислала за мной в класс. К Maman призывали только в исключительных случаях: или когда надо было выслушать выговор за провинность, или когда у институток случалось какое-нибудь семейное горе…
«Выговоров я не заслужила, значит, надо ожидать чего-то другого…» – решила я по дороге в квартиру княгини-начальницы, и смертельная тоска сжала мое сердце.
– Дитя мое, – сказала Maman, когда я вошла в ее роскошную темно-красную гостиную, – твоя мама и брат серьезно занемогли…
Что-то ударило мне в сердце… Я с воплем бросилась к ногам начальницы и сквозь рыдания пролепетала:
– Умоляю… Не мучьте… Правду… Скажите одну только правду… Они умерли, да?..
Мучительно протянулась секунда в ожидании ответа. Мне она показалась по крайней мере часом. Я слышала, как маятник часов выстукивал свое монотонное «тик-так», или это кровь била в мои виски, я не знаю… Все мое существо, вся моя жизнь перешла в глаза, так и впившиеся в лицо начальницы, на котором жалость боролась с нерешительностью…
– Да говорите же, говорите, ради Бога! – исступленно вскричала я. – Не бойтесь, я вынесу, все вынесу, какова бы ни была эта ужасная правда!..
И Maman сжалилась надо мной и, сжав меня в объятиях, сказала свое потрясшее меня «да».
Это было ужасное горе. Когда умерла Нина Джаваха, я могла плакать у ее гроба, и слезы хотя бы отчасти облегчали меня. Тут же не было места ни слезам, ни стонам. Я застыла, закаменела в своем горе… Ни учиться, ни говорить я не могла… Я жила и не жила в одно и то же время… Это было как тяжелый обморок, что-то до того мучительное, страшное и болезненное, чего нельзя выразить словами…
И в такую минуту милая рыжая девочка пришла мне на помощь.
Маруся Запольская взяла меня на свое попечение, как нянька берет больного, измученного ребенка… Она бережно, стараясь не бередить мою рану, переживала со мной мою драму и, насколько могла, облегчала мое печальное существование.
Милая, добрая, чуткая Краснушка! Я благословляю тебя за твое чудное сердечко, за твою тонкую, восприимчивую, глубокую натуру!
С той минуты, как я осиротела, я поступила в полное ведение института. У меня уже не было семьи, дома, родных… Это мрачное здание стало отныне моим домом, начальница должна была заменить мне мать, подруги и наставницы – родных.
Я не могла бы существовать на скромную пенсию после отца, и потому институтское начальство должно было взять на себя хлопоты по устройству моего будущего… А это будущее было теперь так близко…
Я смотрела на темное небо и ласковые звезды, и в моей душе поднимались накипевшие вопросы: «Что-то будет со мной? Куда попаду после выпуска? У кого начну мою нелегкую службу в гувернантках? И будет ли судьба ласкова в будущем к бедной, одинокой девушке, не имеющей ни родных, ни крова?..»
Но небо молчало и звезды тоже… И весь этот осенний вечер был темен и непроницаем, как мое будущее, как моя судьба…

Глава IX. Черная женщина. – Страшная тайна
Картины минувшего так захватили меня, что я и не заметила, как прошло время. Я, должно быть, больше часа простояла у окна силюльки, охваченная воспоминаниями, потому что звуки гамм и упражнений в соседних номерах давно затихли, и в них воцарилась могильная тишина…
«Наши, должно быть, ушли и забыли позвать меня… Или правда решили проверить Вольскую, заставив меня невольно караулить „черную женщину“», – пронеслось в моих мыслях, и я поспешно стала собирать ноты и укладывать их в папку.
На душе у меня вдруг сделалось холодно и тоскливо. Какой-то необъяснимый страх незаметно прокрался в сердце и заставил его биться чаще и тревожнее обычного. Воспоминание о вчерашнем рассказе Вольской настойчиво лезло в голову. Дрожащими руками я втискивала ноты в папку, которую, как нарочно, долго не могли завязать мои дрожащие пальцы. Легкий стук в стекло (двери во всех силюльках были стеклянные) ужасно обрадовал меня.
«Слава Богу, не все наши убежали… Наверное, Рая Зот пришла за мной!» – подумала я и весело крикнула, завязывая последние тесемочки на папке:
– Сейчас, Раиса, иду! – и обернулась к двери…
Ледяной ужас сковал мои члены. Напротив меня, прижимаясь бледным лицом к стеклу и пристально глядя мне прямо в лицо яркими, горящими, как уголья, глазами, стояла высокая, худая, как тень, женщина в черном платье.
Я не могу точно определить то чувство, которое охватило меня при виде призрака, так как я ни на минуту не сомневалась, что это был именно призрак. У живых людей не могло быть такого бледного, худого лица и таких странных, блуждающих глаз. Я видела сквозь стекло двери, как они горели, эти страшные глаза, остановившиеся на мне каким-то хищным, диким взглядом… Улыбка кривила губы… Улыбка, страшная, как смерть…
Я стояла как заколдованная, не смея ни двинуться, ни крикнуть… Я с ужасом ждала, чего – сама не знаю, но чего-то рокового, неизбежного, что должно было свершиться здесь, сейчас, сию минуту…
Ручка двери зашевелилась… Еще секунда – и черная женщина стояла на пороге, протягивая ко мне костлявые, худые, белые, как снег, руки…
«Выскочить из номера и убежать без оглядки!» – мелькнуло у меня в голове. Но убежать я никак не могла. Черная женщина стояла в пяти шагах от меня, загораживая выход, и, казалось, читала мои мысли…
Вдруг она двинулась ко мне, бесшумно скользя, почти не отрывая ног от пола. Еще минута – и ее худые, холодные руки легли мне на плечи, а безумные черные глаза уставились на меня своими огромными зрачками. И вдруг глухой, низкий голос женщины простонал с невыразимой тоской:
– Куда? Куда они ее дели?..
Ужас не отпускал меня, он становился все сильнее… Черная женщина заговорила!.. С ее бледных, почти безжизненных уст срывались странные, дикие слова, перемежающиеся воплями и стонами. Бешено сверкали два огненных глаза, костлявые пальцы до боли впивались мне в плечи, а губы выкрикивали отрывисто и глухо:
– Я знаю… О, я знаю, где она… Ее убили, я видела нож, которым ее зарезали… Потом ее закопали… Живую закопали, теплую… Она могла бы еще жить… Ее могли бы спасти… Она дышала… Но ее опустили в яму и засыпали… Почему они сделали это?.. Их дочери, сестры, жены живут, радуются, дышат! А она, такая юная, такая красивая, должна лежать и томиться под белым крестом… Я знаю, что она жива! Знаю… Я слышу, она говорит: «Мама! За что меня убили? Мама, накажи моих палачей, моих убийц!» Накажу, моя крошечка, моя невинная голубка, моя радость! Я отомщу им за твою гибель! Будь покойна, радость моя, будь покойна… Ты должна была жить, а не их дети, их тщедушные, жалкие, болезненные дети! Так пусть же гибнут и они, пусть и они ложатся под белый крест, пусть и их давит земля! Я так хочу! Я должна быть справедлива!..
И с этими словами она со своей ужасной блуждающей улыбкой заглянула мне в лицо…
Сомнений не было. Передо мной стояла безумная. Я почти ничего не поняла из ее бессмысленной речи, но инстинктивно почувствовала, что мне грозит смертельная опасность. Движимая чувством самосохранения, я сбросила ее руки с моих плеч и кинулась за рояль, в противоположный угол силюльки.
Тихий, торжествующий смех огласил крошечную комнатку. Сумасшедшая в три прыжка бросилась ко мне и схватила меня за горло… В углах ее рта клокотала розовая пена, глаза почти вылезли из орбит. Я сделала невероятное усилие и еще раз вывернулась из ее рук.
Началась бешеная гонка. Я понеслась вокруг рояля, опрокинув табурет, попавшийся мне под ноги. Безумная со своими дикими криками гналась за мной по пятам. Я понимала, что от быстроты моих ног зависит мое спасение, и все быстрее и быстрее обегала рояль. Но мало-помалу усталость брала свое, мои ноги подкашивались, голова кружилась от непрерывного бега в одну сторону… Еще минута – и безумная настигнет меня и задушит своими костлявыми руками… Отчаяние придало мне сил. Я сделала невероятный рывок, опередила черную женщину и, бросившись к двери, выскочила из силюльки. Ужасный вопль потряс стены силюлек. Такой же, но более тихий вопль раздался снизу, и в ту же минуту бледная как смерть Арно вбежала мимо меня в номер и бросилась к безумной.
– Дина! Дина! – рыдала она, схватив в объятия черную женщину. – Дина! Дина! Очнись, успокойся, голубка! Здесь только твои друзья!
При первых же звуках этого голоса безумная разом затихла и покорно прижалась к плечу Арно головой, точно ища защиты.
– Власовская, – зашептала француженка, и я удивилась новому выражению ее лица – скорбному, молящему и растерянному, – она не причинила вам вреда, не правда ли?
– О, нет, не переживайте, мадемуазель! – ответила я, все еще еле держась на ногах от страха и робко косясь на черную женщину, неподвижно застывшую в объятиях классной дамы.
В ней теперь уже не было ничего зловещего и ужасного. Горящие глаза безумной как-то разом потухли, они бессмысленно и тупо смотрели на меня… На губах играла улыбка, но уже не прежняя, страшная, а какая-то новая – жалкая, виноватая, почти по-детски застенчивая… Она еще больше осунулась и побледнела и стала действительно похожа на призрак…
Мадемуазель Арно осторожно взяла ее под руку, и мы все втроем вышли из силюлек.
Я тихо шла за ними. Уже поднимаясь по лестнице, Арно обернулась ко мне:
– Моя бедная сестра напугала вас! Простите ли вы ее, Люда?..
Сестра? Так черная женщина оказалась сестрой нашей классной!
– Конечно, мадемуазель, – тихо ответила я, – не беспокойтесь, слава Богу, все закончилось благополучно.
– О! – сокрушенно вздохнула Арно. – Я хлопочу не за нее… Она душевнобольная, Люда, и не понимает даже того, что вы сейчас говорите… Три дня тому назад ее привезли сюда родственники, чтобы поместить в больницу, и я временно оставила ее у себя… Я попросила об этом Maman, сказав, что она поражена тихим безумием, которое не приносит вреда… И это была правда, так как сегодняшний припадок случился в первый раз со времени ее болезни. Я прошу вас, Люда, не говорить никому ни слова о случившемся… Вы ведь не станете причинять мне зла? Ведь если княгиня узнает о том, как вас испугала моя несчастная сестра, весь ее гнев обрушится на меня. Я знаю, Люда, вы добрая девушка и исполните мою просьбу. В свою очередь я отплачу вам тем же… Вы не нуждаетесь в снисхождении, потому что безупречны в поведении и прилежании, но ваш друг Запольская… Вы понимаете меня?..
– Не сомневайтесь, мадемуазель, – поторопилась я успокоить бедную француженку, – никто ничего не узнает.
Мне стало жаль ее. Она выглядела такой несчастной в эту минуту!
– О, какое это горе, мадемуазель! – шепотом произнесла я, сочувственно указав глазами на безумную, покорно поднимавшуюся по лестнице об руку с сестрой.
– Вы можете говорить при ней вслух все, что угодно, – с печальной улыбкой сказала Арно, – она все равно не услышит вас и не поймет… О да, это ужасное несчастье! – помолчав с минуту, продолжала она. – Кто бы мог думать, что моя бедная Дина станет таким жалким, несчастным существом! И как все это неожиданно и странно случилось… У нее была дочь, которую она боготворила. Она еще больше привязалась к девочке после смерти любимого мужа… Это был прелестный ребенок, Власовская! Умненький, развитой, красивый… Наша общая любимица и надежда. И вдруг она заболела тяжелой болезнью, требующей операции… Но слабый организм не выдержал, и ребенок умер под ножом хирурга. Это ужасное несчастье так повлияло на сестру, что она сошла с ума…
Я взглянула на безумную. Она шла по-прежнему тихо, едва передвигая ноги, и прежняя виноватая улыбка блуждала на ее губах. Мне стало так нестерпимо горько на душе, что я поспешила уйти от них.
В дверях дортуара я столкнулась с Вольской. Ее темно-серые глаза так и впились в меня с немым вопросом.
Я хотела пройти мимо, сделав вид, что не замечаю ее вопрошающего взгляда, но она властно взяла меня за руку и принудила остановиться.
– Ну, Люда, – не отрываясь от меня взглядом, сказала она, – скажи мне, лгала я или нет вчера ночью?
Промолчать я не могла, а выдать тайну Арно мне не позволяла совесть, поэтому я смело посмотрела в глаза Анне и ответила без запинки:
– Да, Вольская, ты права! Я тоже видела призрак.