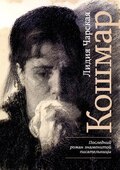Лидия Чарская
Люда Власовская
После обеда нас снова повели в сад. Миля Корбина, с трепетом ожидавшая этого часа, вихрем понеслась в последнюю аллею к своей «принцессе». Белка, Мушка и Маня Иванова последовали ее примеру. Меня, признаться, также тянуло туда – еще раз взглянуть на странную, таинственную Нору, но, помня обещание, данное мной Краснушке, я не пошла, не желая огорчать и без того уже достаточно наволновавшуюся за этот день Марусю.
Весь вечер после прогулки был посвящен приготовлению уроков. Мы с Краснушкой ушли в угол за черную доску, на которой писали мелом во время уроков, и там прилежно занялись географией.
– Ты тут, Галочка? – просунула к нам свою белокурую головку Миля Корбина. – Знаешь, она спрашивала о тебе!
– Кто еще? – подняв на нее сердитые глаза, спросила Маруся.
– Она… Нора… «Принцесса» из серого дома. Она спрашивала про тебя, Власовская, и велела передать поклон.
– Ах, отстань, пожалуйста! – вышла из себя Краснушка. – Ты надоела с твоей «принцессой» и мешаешь нам учиться!
– Она шведка! Мы узнали, – мечтательно произнесла Миля, не обращая ни малейшего внимания на гнев Запольской, – шведка… скандинавка. Страна древних скальдов и северных преданий – ее родина!
– Да убирайся ты с твоей скандинавкой, Милка, или я завтра же пойду на последнюю аллею, чтобы наговорить ей дерзостей!..
– Ты, Краснушка, злючка! Кто же виноват, что ты надерзила Арно! – спокойно возразила Миля. – Ведь и мне попало, и меня стерли с доски, а я не унываю, однако, потому что скоро выпуск, скоро всему конец – и Арношке, и красным доскам, и нулям, и придиркам… Ах, Маруся, милая, – восторженно заключила Миля, – душка, напиши ты мне поэму, в которой воспевалась бы Нора, пожалуйста, Маруся! Поэму вроде этой, слушай: «Мы все дочери лесного царя и живем в большом непроходимом лесу. Мы гуляем, резвимся, танцуем… Во время одной из прогулок натыкаемся на замок другого царя… В этом замке живет принцесса, светлая, как солнце… Ее улыбка…»
– Отстань! – свирепо закричала Краснушка. – Люда, заткни уши и повторяй реки Сибири.
Я послушалась ее совета и, со смехом закрыв пальцами оба уха, перебивая Милю, стала твердить:
– Обь с Иртышом, Енисей, Лена, Верхняя Тунгуска, Средняя Тунгуска, Нижняя Тунгуска…
Миля вспыхнула, обиженно пожала плечами и вылезла из-за доски, оставив нас одних.
В восемь часов прозвучал звонок, призывающий нас к молитве и к вечернему чаю. Та же дежурная, Варюша Чикунина, вышла, как и утром, на середину столовой с молитвенником в руках и прочла вечерние молитвы.
Едва мы принялись за чай, отдающий мочалкой, как из-за соседнего стола прибежала Вольская и шепнула нам, чтобы все собрались на ее постели после спуска газа[12]: она сообщит нам интересную «новость».
Бледное, тонкое, всегда спокойное лицо Анны выражало волнение.
Мы все невольно встрепенулись, зная, что Аня, считавшаяся «невозмутимой», никогда не тревожится по пустякам. Значит, с ней действительно случилось что-то особенное. И это особенное уже захватило нас своей таинственностью…

Глава VI. Песня Соловушки. – По душам. – После спуска газа
Около девяти часов мы поднялись в дортуар.
Пугач, предоставив нам полную свободу раздеваться, причесываться и умываться на ночь без ее присутствия, ушла к себе.
Это было лучшее время из всего институтского дня. Ненавистная Арно безмятежно распивала чай в своей комнате, находившейся по соседству с дортуаром, а мы, надев «собственные» длинные юбки поверх институтских грубых холщовых и закутавшись в теплые, тоже «собственные» платки, сидели и болтали, разбившись группами, на постелях друг друга.
Варюша Чикунина заплетала на ночь свои длинные – «до завтрашнего утра», как про них острили институтки – косы и вполголоса напевала какую-то песенку.
– Спой, Соловушка! – умильным голоском обратилась к ней Корбина.
– Пожалуйста, спой, Чикуша, милая! – подхватили и другие. И Варюша, никогда не ломавшаяся в таких случаях, перебросила через плечо тяжелую, уже доплетенную косу и, скрестив на груди полненькие ручки, запела.
Никогда, никогда в жизни я не слышала более приятного, более нежного голоса. Хорошо, дивно хорошо пела Варюша! Эти за душу хватающие звуки словно вырывались из самых недр ее сердца! Они плакали и жаловались на что-то, и ласкали, и нежили, и баюкали… А большие, всегда грустные, не по летам серьезные глаза девушки были полны, как и ее голос, той же жалобой, той же безысходной тоской…
Она пела о знойном лете, о душистых полевых цветах и о трели жаворонка в поднебесной выси. Несложный мотив, простая песня. Но как ее передавала, как бесподобно передавала ее Варюша! И лицо ее, обыкновенно невзрачное, простоватое русское лицо, преображалось до неузнаваемости во время пения… Огромные глаза горели, как два солнца… Рот заалел, полуоткрылся, и из него глядели два ряда мелких и сверкающих, как у белочки, зубов. Положительно она казалась нам в эти минуты красавицей, наша скромная Чикунина.
Песня оборвалась, а мы все еще сидели, словно зачарованные ею. Кира Дергунова очнулась первой. Со свойственной ее южной натуре стремительностью она вскочила со своего места и, повиснув на шее Варюши, вскричала:
– Душка Чикунина! Позволь мне обожать тебя!
– Она будет знаменитой певицей! Увидите, медамочки, – шепотом промолвила Валя Лер, сама втихомолку бредившая сценой. – Вот увидите! Она прогремит своим голосом на весь свет!..
Варюша молчала… Она смотрела вперед затуманенными, странными, полными вдохновения глазами и, казалось, не видела ни этой высокой казенной комнаты, освещенной рожками газа, ни этих стен с рядами кроватей вдоль них, ни смешных, восторженных и пылких девочек…. Может быть, в ее воображении уже мелькала тысячная толпа зрителей, богатая сцена, дивная музыка и она сама – непобедимая владычица толпы, в шелках, бархате и драгоценных уборах!..
Она все еще смотрела не отрываясь в одну точку и не видела и не слышала, как дверь из комнаты Арно приотворилась и классная дама появилась на пороге.
– Власовская! Подойдите сюда, дорогая, я должна поговорить с вами!
Я покорно поднялась и пошла на зов.
– Надень кофточку, кофточку надень! – шепнула мне по дороге Краснушка, и чьи-то услужливые руки набросили мне на плечи грубую ночную кофту.
– Милое дитя! – торжественно произнесла Пугач, как только я перешагнула порог ее «дупла», как прозвали институтки комнату классной дамы, разделенную на две половины дощатой перегородкой. – Милое дитя, я хочу серьезно поговорить с вами. Садитесь!
О, это было уже что-то совсем новое! Никогда еще Арно не приглашала садиться в своем присутствии и никогда ее голос не выводил таких сладких ноток.
Я машинально повиновалась, опустившись на первый попавшийся стул у двери.
– Не здесь! Не здесь! – улыбаясь, произнесла классная. – К столу садитесь, милочка! Вы не откажете, надеюсь, выпить со мной чашку чаю?
На круглом столике у дивана совсем по-домашнему шумел самовар, на тарелках лежали сыр, колбаса и масло. Я, полуголодная после институтского стола, не без жадности взглянула на все эти лакомства, но прикоснуться к чему-либо считала «низостью» и изменой классу. Арно дружно ненавидели, всячески изводили, она была нашим врагом, а есть хлеб-соль врага считалось у нас позорным. Поэтому я только низко присела в знак благодарности, но от чая и закусок отказалась.
– Как хотите, – обиженно поджимая губы произнесла Пугач, – как хотите!
Помолчав немного, она подошла ко мне и, взяв мою ладонь своей худой, костлявой рукой, произнесла насколько могла ласково и нежно:
– Милая Власовская, я хотела с вами поговорить «по душам».
По душам? Вот уж чего я никак не ожидала… Да и вряд ли кто-либо из моих одноклассниц подозревал о присутствии «души» у этого бессердечного, сухого и педантичного пугала.
– Я вас слушаю, мадемуазель, – покорно ответила я.
– Милое дитя, – произнесла Арно теми же сладенькими звуками, – я хочу поговорить с вами о вашей дружбе с Запольской.
– С Марусей? – воскликнула я изумленно.
– Да, моя милая, эта дружба, не скрою, вредит вам. Вы первая ученица и примерная воспитанница. Запольская – отъявленная шалунья. Вы не могли не слышать ее дерзкого обращения со мной. Во время субботнего отчета я поговорю о ней с Maman. Чем это кончится – не знаю… Но если Maman узнает о еще двух-трех дерзостях Запольской, я нисколько не удивлюсь, если конференция настоит на ее исключении из института. Вам нечего дружить с нею, моя дорогая. Знаете пословицу: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Хорошая девушка должна избегать дурных, и я надеюсь, что вы, Власовская, измените свой взгляд на Запольскую и найдете себе более достойную подругу вроде Муравьевой, Марковой, Чикуниной, Зот и других. Надеюсь, вы поняли меня, моя милая. А теперь ступайте спать… Я вас больше не задерживаю. Доброй ночи, милая!
– Доброй ночи, мадемуазель! – я сделала традиционный реверанс и «вылезла из дупла».
Так вот оно что! Вот он, разговор «по душам»! О, противная Арношка! Гадкий Пугач! Неужели она хоть на минуту могла подумать, что я «продам» мою Марусю за ее несчастные закуски и отвратительные речи «по душам»? Никогда, никогда в жизни, мадемуазель Арно, запомните это! Людмила Власовская не была и никогда не станет предательницей!..
– Что ты делала в «дупле»? Что тебе говорила Пугач? – послышались расспросы моих подруг, лишь только я снова очутилась в дортуаре.
Но я, не ответив им ни слова, стремительно кинулась к постели Запольской.
Маруся сидела на ней, поджав под себя ноги по-турецки. В одной руке она держала карандаш, а другой размахивала в воздухе клочком бумаги и что-то быстро-быстро шептала.
Я поняла, что Маруся «сочиняет» и что на нее напал один из ее порывов вдохновения. Ее алый ротик улыбался, а в глазах, там, за этими яркими искорками, в самой глубине блестящих зрачков, что-то горело и переливалось. Рыжие кудри спутанными прядями падали на грудь, и все ее побледневшее личико светилось каким-то внутренним светом.
– Маруся! Маруся! Золото мое! – бросилась я к ней в неудержимом порыве. – Знаешь, что проповедовала мне Арно?!
Но она сейчас была далека и от Арно, и от ее проповедей, и даже от меня самой, ее лучшей, самой дорогой подруги.
– Не мешай, Галочка, – шепотом ответила она, – я пишу стихи… Помнишь мой сон, Люда? Цветы… Нерон… песни… Я облеку этот сон в поэзию… Чикунина своим пением вдохновила меня! Мне всегда хочется писать, когда я слышу песни, музыку… Не мешай, Люда, постой… Как это? Ах, да…
И вот он встал, властитель Рима,
Он лютню взял и подал знак…
Пред ним, бледна и недвижима… –
с пафосом продекламировала Маруся и вдруг, неожиданно сорвавшись с места, кинулась со всех ног к Додо Муравьевой, крича во все горло:
– Душка Додоша, дай рифму на «знак», ты так много читаешь!
– «Дурак»! – неожиданно выпалила Бельская, всегда скептически относившаяся к таланту Краснушки.
– Ты сама дура, Белка, и в тебе ни на волос нет ни поэзии, ни чувства!
И Маруся с тем же блуждающим взглядом вернулась к своей постели.
– Медамочки, какие же мы все талантливые! – восторженно воскликнула Миля Корбина, вскарабкавшись на ночной столик. – Валя Чикунина – певица, Краснушка – поэт… Зот картины пишет… Вольская – музыкантша… Ах, медамочки, давайте поцелуемся, пожалуйста! – неожиданно заключила она.
– Mesdames, ложитесь спать! – перебила ее Арно, снова появляясь на пороге. – Корбина, слезайте сейчас же со столика. Вы, верно, привыкли лазить с мальчишками по заборам у себя дома!
– У-у, противная, – поворачиваясь к ней спиной, протянула Корбина, – как она смеет домом попрекать!.. Анна, Анна, а где же твоя новость? – увидев проходившую с полотенцем через плечо Анну, Миля бросилась к ней.
– После спуска газа, – громким шепотом ответила та. – Медамочки, после спуска газа соберитесь все на моей постели!
Дортуарная девушка Акулина подставила табуретку под висящие под потолком газовые рожки и уменьшила в них свет.
Дортуар утонул в полумраке. Краснушка, вынужденная прервать свое творчество, со злостью швырнула карандаш на пол и сердито прошептала:
– И дописать не дали, что за свинство!
– Запольская, будьте сдержаннее в ваших выражениях, – зашипела на нее Арно.
– Незачем, – проворчала Краснушка, – я же «нулевая» по поведению. Значит, с меня и взятки гладки!
– Не дерзить! Или я отведу вас к Maman! – прикрикнула окончательно выведенная из себя мадемуазель.
– Господи, жизнь-то наша, – комически вздохнула на своей постели Кира, – точно каторга сибирская!..
Маруся долго взбивала подушки, потом встала на колени перед образком, привешенным к изголовью кровати, и стала усердно молиться, отбивая земные поклоны. Потом она снова влезла на постель и, перевесившись в «переулок», как у нас назывались проходы между кроватями, шепнула мечтательно:
– Я бы хотела быть поэтом! Большим поэтом, Люда!
Ее лицо было все еще бледно от вдохновения, рыжие кудри отливали золотом в фантастическом освещении полутемного дортуара, губы улыбались восторженно и кротко.
Я безотчетным движением обняла ее и тихо прошептала:
– Никогда, никогда не «продам» я тебя, милая моя Краснушка!
Она или не расслышала, или не поняла меня, потому что губы ее снова зашевелились, и я услышала ее восторженный лепет:
– Цветы… и кровь… и круглая арена, и музыка, и дикий рев зверей…
– Маруся! Маруся! Да полно тебе… Спокойной ночи!
Она не ответила, только машинально поцеловала меня и, отпрянув на свою постель, зарылась головой в подушки.
Я полежала несколько минут в ожидании, пока Пугач снова не влезет в свое дупло. Когда дверь ее комнаты скрипнула и растворилась, осветив на мгновение яркой полосой света дортуар с сорока кроватями, а затем затворилась снова, я быстро вскочила с постели, накинула на себя юбку и поспешила к Анне Вольской, где уже белели три-четыре фигурки девочек в ночных туалетах.
Анна лежала на своей постели, Кира Дергунова, Белка, Иванова, красавица Лер, Мушка и я расселись кто у нее в ногах, кто на табуретках вокруг кровати.
Вольская, на бледном интеллигентном лице которой ярко горели в полутьме дортуара два больших серых глаза, казавшихся сейчас черными, обвела всех нас испуганно-таинственным взглядом и без всякого вступления сразу выложила новость:
– Я видела в 17-м номере «ее»!..
– Ай! – взвизгнула Мушка. – Анна, противная, не смей, не смей так смотреть, мне страшно!
– Пошла вон, Мушка, ты не умеешь держать себя! – холодно отозвалась Анна, награждая провинившуюся девочку уничтожающим взглядом. – Пошла вон!
Мушка, сконфуженная и присмиревшая, молча сползла с постели Анны и бесшумно удалилась, сознавая свою вину.
– Ну? – затаив дыхание, мы так и впились взглядами в лицо Вольской.
– В 17-м номере появилась черная женщина! – торжественно и глухо проговорила она.
– Анна, душечка! Когда ты ее видела? – прошептала Белка, хватая холодными, дрожащими пальцами мою руку и подбирая под себя спущенные было на пол ноги.
– Сегодня, во время музыки, перед чаем. Я сидела в 17-м номере и играла баркаролу Чайковского, и вдруг мне стало так тяжело и гадко на душе… Я обернулась назад к дверям и увидела черную тень, которая проскользнула мимо меня и исчезла в коридорчике. Я не заметила лица, – продолжала Анна, – но отлично разглядела, что это была женщина, одетая в черное платье…
– А ты не врешь, душка? – усомнилась Кира.
– Анна никогда не врет! – гордо ответила Валя Лер, подруга Вольской. – И потом, будто ты не знаешь, что 17-й номер пользуется дурной славой…
– Ах, душки, я никогда не буду там заниматься! – в ужасе зашептала Иванова. – Ну, Вольская, милая, – пристала она к Анне, – скажи: она смотрела на тебя?
– Я не заметила, медамочки, потому что страшно испугалась и, побросав ноты, кинулась в соседний номер к Хованской.
– А Хованская ее не видела?
– Нет.
– Хованская парфетка, а парфетки никогда не видят ничего особенного! – авторитетно заметила Кира.
– И Вольская парфетка, – напомнила Белка.
– Анна – совсем другое дело. Анна же особенная, как ты не понимаешь? – горячо запротестовала Лер, питавшая восторженную слабость к Вольской.
– Медамочки, – со страхом снова зашептала Бельская, – а как вы думаете, кто она?
– Разве ты не знаешь? Конечно, все та же монахиня, настоятельница монастыря, из которого давным-давно сделали наш институт. Ее душа бродит по силюлькам[13], потому что там раньше были кельи монахинь, и ее возмущает, должно быть, светская музыка и смех воспитанниц! – пояснила Миля Корбина, незаметно подкравшаяся к группе.
– Медамочки, а вдруг она сюда к нам доберется – да за ноги кого-нибудь! Ай-ай, как страшно! – продолжала Вельская, окончательно взбираясь с ногами на табуретку.
– Знаете, душки, если мне выйдет очередь музицировать в 17-м номере, я в истерику – и в лазарет! – заявила Кира.
– А Арношка тебя накажет! Она ведь истерик не признает…
– Пусть наказывает… А я все-таки не пойду! Этакие страсти!
– А ты боишься, Власовская? – обратилась ко мне Анна, когда мы, перецеловавшись и перекрестив друг друга, стали расходиться по своим постелям.
– Нет, Вольская, не боюсь, – спокойно ответила я, – ты прости меня, но я не верю всему этому.
– Мне не веришь? – и большие глаза Анны ярко блеснули в полумраке. – Слушай, Людмила, – продолжала она своим сильным грудным голосом, – я сама не верила своим глазам, но… слушай, это было… Я ее видела… видела черную женщину, клянусь тебе именем моей покойной матери. Веришь мне теперь, Люда?
Да, я ей поверила. Я, впрочем, ни на минуту не усомнилась, что Анна говорит правду, – нет, Вольская была в наших глазах особенной девушкой. Она никогда не лгала, не пряталась от наказания за свои провинности и была образцово честна. Правда, ее нервозность казалась иногда болезненной, и в первую же минуту ее рассказа я подумала, что черная женщина была всего лишь плодом ее расстроенной фантазии. Но когда Вольская поклялась мне, что действительно видела черную женщину, – я больше уже не смела сомневаться в ее словах, и мне действительно стало страшно…

Глава VII. Кис-Кис. – Исповедь. – Батюшка
На следующий день было немецкое дежурство. Фрейлейн Геринг – добродушная толстенькая немочка, которую мы любили настолько, насколько ненавидели Пугача-Арно, – еще задолго до звонка к молитве пришла к нам в дортуар и стала, по своему обыкновению, «исповедовать», то есть расспрашивать девочек о том, как они вели себя в предыдущее – французское – дежурство.
Мы никогда не лгали Кис-Кис, как называли нашу фрейлейн, и потому Краснушка в первую же голову рассказала о вчерашней «истории», Миля Корбина присовокупила к этому рассказу и свое злополучное происшествие. Фрейлейн внимательно выслушала девочек, и лицо ее, обыкновенно жизнерадостное и светлое, приняло печальное выражение.
– Ах, Маруся, – произнесла она с глубоким вздохом, – золотое у тебя сердце, да буйная головушка! Тяжело тебе будет в жизни с твоим характером!
– Дуся-фрейлейн, – пылко вскричала Краснушка, – ей-Богу же, я не виновата! Она ко мне придирается.
– Ты не должна говорить так о твоей классной даме, – сделав серьезное лицо, произнесла Кис-Кис.
– Право же, придирается! Ведь из-за пустяка началось – зачем я поцеловала Власовскую после звонка.
– Ну и промолчала бы, смирилась, – укоризненно произнесла фрейлейн, – а то ноль за поведение. Фи, стыд какой! Выпускная – и ноль… Ведь Maman может узнать, и тогда дело плохо… Слушай, Запольская, ты должна пойти извиниться перед мадемуазель Арно… Слышишь, ты должна, дитя мое!
– Никогда, – горячо вскричала Маруся, – никогда! Не требуйте этого от меня, я ее терпеть не могу, ненавижу, презираю!
– Значит, ты не любишь и меня! – произнесла Кис-Кис, укоризненно качая головой.
– Я не люблю? Я, фрейлейн? И как вы можете говорить так, дуся, ангел, несравненная! – и она бросилась на шею наставницы и вмиг покрыла все лицо ее горячими, быстрыми поцелуями.
– А Пугача я все-таки ненавижу, – сердито поблескивая глазами, шепнула Краснушка, когда мы становились в пары, чтобы идти вниз.
Первый урок был батюшки.
Необычайно доброе и кроткое существо был наш институтский батюшка. Девочки боготворили его все без исключения. Его уроки готовили дружно всем классом; если ленивые отставали, прилежные подгоняли их, помогая заниматься. И отец Филимон ценил рвение институток. Чисто отеческою лаской платил он девочкам за их отношение к нему. Вызывал он не иначе, как прибавляя уменьшительное, а часто и ласкательное имя к фамилии институтки: Дуняша Муравьева, Раечка Зот, Милочка Корбина и так далее. Случалось ли какое горе в классе, например, наказывали кого-нибудь, – батюшка долго расспрашивал о «несчастье» и, если наказанная пострадала невинно, шел к начальнице и выгораживал пострадавшую. Если же девочка была виновата, отец Филимон уговаривал ее чистосердечно принести повинную и загладить проступок.
Во время своих уроков батюшка никогда не сидел на кафедре, а ходил между скамейками, поясняя заданное к следующему дню, то и дело останавливаясь около той или другой девочки и поглаживая ту или другую склоненную перед ним головку. Добрый священник знал, что в этих холодных казенных стенах вряд ли найдется хоть одна душа, способная понять чуткие души девочек, с самого раннего детства вырванных судьбой из-под родной кровли… И он старался своей лаской хоть отчасти заменить им тех, кого они оставили дома, поступая в учебное заведение со строгой дисциплиной.
– Ну, девоньки, – обратился он к нам после молитвы, которую в начале его урока всегда прочитывала дежурная воспитанница, – а херувимскую концертную вы мне выучили к воскресенью?
– Выучили, батюшка, выучили! – радостно ответили несколько звонких молодых голосов.
– Ну, спасибо вам! – ласково улыбнулся батюшка. – Нелегкая задача – петь на клиросе… Справитесь ли, Варюша? – обратился он к Чикуниной, на что та ответила своим сильным, звучным голосом:
– Постараемся, батюшка.
– Бог в помощь, деточки! А вот псаломщика у нас нет!
И батюшка внимательным взором обвел класс, не решаясь, на ком остановиться.
«Псаломщиком» называлась воспитанница, которая читала за дьячка всю церковную службу в институтской церкви. Быть псаломщиком далеко не просто. От псаломщика требовалось знание славянского языка, звучный голос и крепкое здоровье, чтобы не уставать в продолжение долгих церковных служб.
После шумных рассуждений была выбрана Таня Петровская – отчасти за ее благочестие, отчасти за здоровье и выносливость.
– Батюшка, а у нас в 17-м номере появилась черная женщина! – неожиданно выпалила сидевшая на последней скамейке Иванова.
– Что вы, Манюша, Бог с вами! – воскликнул батюшка и, сдвинув на лоб очки, пристально посмотрел на девочку.
– Иванова, глупая, молчи! Ведь это тайна! – дернула ее за рукав сидевшая рядом Кира.
Но было уже поздно. Батюшка услышал «тайну».
– Что вы, девочки, – прозвучал его ласковый голос, – никакой черной женщины не может быть в музыкальной комнате! Ведь незнакомых не допускают в институт, а всех ваших дам вы знаете в лицо.
– Да это была не дама, батюшка, это было «оно»… – робко начала Бельская.
– Что? – не понял батюшка.
– Оно… привидение… – подхватила Миля Корбина, и зрачки ее расширились от страха.
– Да Господь же с вами, девоньки, чего только не выдумаете! – ласково усмехнулся отец Филимон. – Ничего тайного, сверхъестественного не может быть на земле. Есть таинства, а не тайны, – таинства обрядов, таинство смерти и другие.
– Ах, батюшка, – прошептала Миля, – а как же мертвецы встают из гробов… и являются живым людям?..
– Все это неправда, девочка. Либо неуместная шутка досужих людей, либо просто выдумка. Тело подлежит тлению после смерти, как же оно явится? А душа, насколько вы знаете, не может воплощаться, – пояснил батюшка. – Да и кто из вас видел эту черную женщину?
Мы невольно оглянулись на Вольскую. Она сидела бледная и спокойная, по своему обыкновению, и на вопрос священника твердо ответила:
– Я ее видела, батюшка.
– Вы, Анночка? – удивился тот. – Но, деточка, вы, наверное, ошиблись, приняв кого-нибудь из музыкальных дам, делавших обход номеров, за привидение… Успокойтесь, дети, – обратился он ко всем нам, – знайте, что все усопшие спокойно спят в своих могилах и что привидений не существует на земле! Анна, верить в них – грешно и нехорошо.
Анна молчала, только легкая судорога подергивала ее губы. Вольская пользовалась у нас авторитетом. Ей верили больше всех в классе, ее уважали и даже чуточку боялись. И в правдоподобии ее рассказа о черной женщине никто ни на минуту не усомнился.
Объяснение батюшки сорвало покров таинственности с происшествия Вольской, и мы сидели теперь разочарованные и даже огорченные тем, что «оно» оказалось всего-навсего музыкальной дамой. Какое обыкновенное и прозаическое объяснение! Какая жалость!
– Я иду заниматься в семнадцатый номер, – решительно заявила Белка, когда батюшка, благословив нас по окончании урока, вышел из класса.
– И я!
– И я!
– И я! – послышалось со всех сторон.
Семнадцатый номер брали теперь чуть ли не с боем.
Надо доказать, что Анна вчера ошиблась. Надо разрешить эту загадку.
– А я и не подозревала, Анна, о твоей способности к «сочинительству», – проходя мимо Вольской, съязвила Крошка.
Анна ответила презрительной улыбкой. Она слишком ценила свое достоинство, чтобы вступать в какие-либо объяснения и пререкания с подругами, которых в глубине души считала ниже и глупее себя.
Все последующие уроки, завтрак и обед мы просидели как на иголках, ожидая, когда нам прочтут распределение номеров для часа музыкальных упражнений.
Наконец час этот настал. В семь часов вечера фрейлейн Геринг взошла на кафедру и, взяв в руки тетрадку с расписанием, прочла распределение силюлек: Бельская – 10, Иванова – 11, Морева – 12, Хованская – 13 и так далее, вплоть до последнего, 17-го номера, который достался мне.
В первую минуту мне показалось, что я ослышалась.
– Какой? – невольно переспросила я.
– Семнадцатый, семнадцатый!.. Галочка, пусти, пусти меня! – послышалось со всех сторон.
Но я не согласилась: мне во что бы то ни стало захотелось попасть туда самой, чтобы подтвердить слова батюшки или… убедиться в предположении Анны.