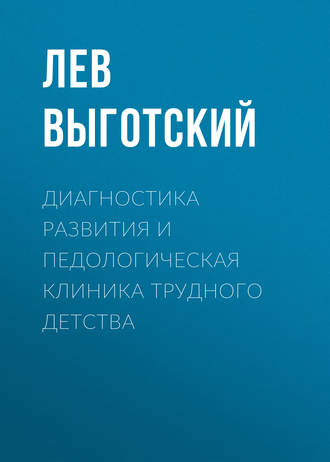
Лев Семенович Выготский
Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства
В этом смысле замечательны слова Кречмера относительно шизофрении. К. Ясперс, Груле и другие, говорит он, ошиблись, сделав нечувствуемость главным критерием душевной жизни шизофреника. Поведение шизофреника бессмысленно так же, как иероглифы египтян, пока они были непоняты. Вместе с Блейлером надо овладевать этим жаргоном и перевести его на немецкий язык. Тогда откроются осмысленные связи и комплексные влияния, которые часто не резко отличаются от соответствующих образований у невротиков. Это же всецело относится и к любому развитию ненормального ребенка. И там умение интерпретировать, расшифровывать иероглифы является основным условием для того, чтобы перед исследователем раскрылась осмысленная картина личности и поведения ребенка. Без этого навсегда закрыт доступ к исследованию такого ребенка и к воздействию на него.
По замечательному выражению К. С. Лешли, одним из основных доказательств немеханичности и неатомистичности деятельности нашей нервной системы является факт осмысленности, связности, структурности поведения личности даже при патологических нарушениях. В церебральной системе, по его мнению, единство деятельности коренится, по-видимому, еще более глубоко, чем структурная организация. Работая над животными и над больными людьми, он все более и более поражался отсутствию хаотичности в поведении, которую можно было ожидать, судя по размеру и форме поражений. Можно наблюдать большое выпадение сенсорных и моторных способностей, амнезии, эмоциональные дефекты, деменцию, и при всех этих условиях сохранившееся поведение осуществляется в упорядоченной форме. Оно может быть причудливым или может быть карикатурой нормального поведения, но оно не является совершенно неорганизованным. Даже деменция не совершенно бессмысленна: она заключает в себе снижение уровня понимания и сложности тех соотношений, которые могут быть поняты. Но то, что больной может выполнить, он выполняет в упорядоченной и осмысленной форме.
Таким образом, даже видимая бессмыслица имеет, очевидно, смысл. «Это безумие имеет свою методу», как говорит Полоний в «Гамлете». Лешли образно утверждает, что если представить себе экспериментально созданный хаос в поведении, то все равно хаоса не получилось бы. Нервная система, говорит он, обладает способностью к саморегуляции, придающей связный, логический характер ее функционированию независимо от того, каковы нарушения составляющих ее анатомических элементов. Предположим, мы могли бы срезать мозговую кору, повернуть ее и поместить снова задом наперед, связав наудачу с различными волокнами. Каковы были бы последствия этой операции для поведения? С точки зрения традиционных теорий, мы должны были бы ожидать полного хаоса. С той же точки зрения, которую К. Лешли отстаивает, можно ожидать лишь крайне незначительных нарушений поведения. Исследуемый субъект, может быть, нуждался бы в некотором перевоспитании, хотя возможно, что я этого не было бы, так как мы еще не знаем ни локализации, ни характера организации навыков. Но в течение перевоспитания субъект может обнаружить нормальную способность к пониманию отношений и к рациональной деятельности в мире своего опыта.
Таким образом, задача расшифровки, интерпретации вскрытия разумных, осмысленных связей, зависимостей и отношений составляет главную и основную задачу исследователя в интересующей нас области. В этом отношении, нам думается, задача исследования должна пониматься шире, чем задача обучения технике и методике отдельных опытов. Здесь в гораздо большей степени встает задача воспитания мышления и умения находить связи, чем задача хорошо владеть техникой. Кречмер, указывая на то, что в основе применяемой им методики исследования словесное описание конституции предшествует измерению и должно быть получено всегда независимо от него, говорит, что глаз не должен заранее встречать помехи в данных измерениях. Все зависит от возможности совершенной художественной тренировки нашего глаза. Отдельные измерения по шаблону, без идеи и интуиции об общем строении, вряд ли могут сдвинуть нас с места. Сантиметр не видит ничего, сам по себе он никогда не может привести нас к пониманию биологических типов, которое является нашей целью. Но раз мы научились видеть, то мы вскоре замечаем, что циркуль дает нам точные красивые подтверждения, дает цифры, формулировки, а иногда важные поправки к тому, что мы обнаружили глазами, по мысли Кречмера. В зависимости от этого нужно переоценить роль сантиметра и глаза в умении измерять и в умении видеть не только при методике исследования телосложения, но и при методике всякого педологического исследования. Задача методики заключается не только в том, чтобы научить измерять, но и в том, чтобы научить видеть, мыслить, связывать, а это значит, что чрезмерная боязнь так называемых субъективных моментов в толковании и попытка получить результаты наших исследований чисто механическим, арифметическим путем, как это имеет место в системе Бине, ложны. Без субъективной обработки, т. е. без мышления, без интерпретации, расшифровки результатов, обсуждения данных нет научного исследования.
Нам остается кратко наметить схему педологического исследования так, как мы его понимаем. Мы думаем, что одна из основных ошибок современной педологии – недостаточное внимание к практической работе, культуре диагностики развития. В сущности этому искусству никто не обучает педолога, а огромное большинство наших педологов, занятых теоретической работой, оставляют эту сторону дела в совершенно неразработанном виде. Здесь педология оказывается в гораздо более жалком положении, чем педиатрия и другие смежные с ней области. Педиатр часто знает в области детской патологии не больше, а меньше, чем педолог в области детского развития. Но педиатр владеет тем, что знает, он умеет практически применить свои знания.
Недавно один из агрономов рассказывал в печати о своем коллеге, попавшем в Америку и принявшемся там за поиски работы. Этот ученый-агроном развернул свои дипломы, стал сообщать о своей подготовке, о стаже, об исследованиях, но его прежде всего спросили, что он умеет делать. Этот вопрос в сущности следовало бы поставить и перед современной педологией. Ей предстоит задуматься над тем, что она умеет делать, и научиться прилагать к жизни мертвый капитал своих знаний. Мы думаем, что в работе над диагностикой развития, над созданием педологической клиники педология только и сможет окончательно оформиться как наука, но никогда не достигнет этого только на теоретическом пути.
Предлагаемая нами схема педологического исследования в применении к трудновоспитуемому и ненормальному ребенку складывается из нескольких основных моментов, которые мы назовем в порядке их последовательности. На первое место должны быть поставлены тщательно собранные жалобы родителей, самого ребенка, воспитательного учреждения. Начинать надо именно с этого, но и жалобы следует собирать совсем не так, как они обычно собираются (их дают в обобщенном виде и вместо фактов нам сообщают мнения, готовые выводы, нередко тенденциозно окрашенные). В жалобах родителей часто, например, приходится читать: ребенок злой, отсталый. Исследователя же интересуют факты, которые должны указать ему отец или мать.
В этом смысле большое методическое значение приобретают основные принципы исследования характера. Известно, что нужно избегать не только субъективных оценок, но, добавим от себя, и всяких обобщений, принимаемых на веру и не проверяемых в течение исследования. Сам по себе факт, что отец считает ребенка злым, должен быть учтен исследователем, но этот факт должен быть учтен именно в своем значении, т. е. как мнение отца. Это мнение необходимо проверить в ходе исследования, но для этого следует вскрыть факты, на основе которых получено данное мнение, факты, которые исследователь должен толковать по-своему. «Если мы спросим, – говорит Кречмер, – простую крестьянку, был ли ее брат боязливым, миролюбивым, энергичным, то мы часто получим неясные и неуверенные ответы. Если мы, напротив, спросим, что он делал будучи ребенком, когда должен был один отправляться на темный сеновал, или как он себя вел, когда происходила драка в трактире, то эта же самая женщина даст нам ясные, характерные сведения, которые благодаря своей жизненной свежести носят на себе отпечаток достоверности. Нужно быть хорошо знакомым с жизнью простого человека, крестьянина или рабочего, и всецело перенестись в нее, причем при расспросах следует остановиться не столько на схеме свойств характера, сколько на его жизни в школе, церкви, трактире, в повседневной деятельности, и все это на конкретных примерах. Я поэтому особенное значение придаю тому, чтобы по возможности больше расспрашивать в этой конкретной форме» (1930. С. 138).
Существенно учитывать и субъективные показания самого ребенка. Но и здесь могут быть снова перед нами показания, часто заведомо недостоверные, если их принять как свидетельство об известных фактах. Ребенок может себя рекомендовать не таким, каков он в действительности, он просто может говорить неправду, но сам по себе факт всегда остается фактом, в высшей степени ценным для исследователя. Факт собственной самооценки, факт лжи должен быть учтен и объяснен исследователем. Нам рассказывали об одном известном невропатологе, который, отрицая всякое значение субъективных показаний, старался застраховать себя от внушающего воздействия жалоб больного и начинал всегда с объективного исследования. Для этого врач придумал простой прием: когда он приступал к исследованию больного, то велел ему всякий раз дышать ртом для того, чтобы лишить пациента возможности сказать, на что он жалуется и что у него болит. Когда больной, естественно, удивленный тем, что врач осматривает не то, что у него болит, пытался сказать, на что он жалуется, исследователь прерывал посетителя и снова напоминал о том, что нужно дышать ртом. В этой утрированной, карикатурной форме выражена совершенно ложная тенденция игнорировать субъективные данные. Мы уже указывали в другом месте, что ценность субъективных показаний совершенно аналогична ценности показаний подсудимого и потерпевшего в суде. Всякий судья поступил бы, разумеется, совершенно неосновательно, если бы хотел решить дело на основе жалобы подсудимого или потерпевшего. Но столь же неосновательно пытаться обойтись вовсе без показаний обоих заинтересованных, а потому искажающих действительность лиц. Судья взвешивает и сопоставляет факты, сличает их, толкует, критикует и приходит к известным выводам.
Так поступает и исследователь. Нужно с самого начала усвоить в практическом педологическом исследовании одну простую методологическую истину: часто прямой задачей научного исследования является установление некоторого факта, который не дан непосредственно в настоящем. От симптомов к тому, что лежит за симптомами, от констатирования симптомов к диагностике развития – таков путь исследования. Поэтому представление, будто научная истина всегда может быть установлена с помощью прямого констатирования, оказывается ложным. На этом ложном предположении была основана вся старая психология, которая думала, что психические явления могут изучаться только в их непосредственном усмотрении, с помощью интроспекции. Между тем, как правильно говорит в «Методологическом введении в науку и философию» (1923) В. Н. Ивановский, эта идея покоится на ложной посылке. Окончательное разъяснение этого вопроса связано с введением в психологию понятия бессознательного. В прежнее время психология, особенно английская, часто вовсе отрицала возможность изучения психологических состояний бессознательного характера на том основании, что эти состояния не сознаются нами и, следовательно, мы о них ничего не знаем. Рассуждение это исходит из посылки, безмолвно принимаемой за несомненную, а именно, что мы можем изучать только то и вообще можем знать только о том, что мы непосредственно сознаем. Однако предпосылка эта необязательная, так как мы знаем и изучаем много того, чего непосредственно не сознаем, о чем узнаем при помощи аналогии, построения, гипотезы, выводимого умозаключения и т. д., вообще лишь косвенным путем. Так создаются, например, все картины прошлого, восстанавливаемого нами при помощи разнообразнейших выкладок и построений на основе материала, который нередко совершенно непохож на эти картины. Когда зоолог по кости вымершего животного определяет его размер, внешний вид, образ жизни и говорит, чем это животное питалось и т. д., все это непосредственно не дано зоологу, им прямо не переживается, а он делает вывод на основании некоторых, непосредственно осознаваемых признаков костей и т. п.
Таким же путем изучается и бессознательное, т. е. по известным его следам, отголоскам, проявлениям в том, что непосредственно сознается. Человеческая личность представляет собой иерархию деятельностей, из которых далеко не все сопряжены с сознанием, а поэтому сфера психического шире сферы сознания (в смысле непосредственного сознания). То, что здесь сказано относительно бессознательного, в полной мере приложимо и к сознательной стороне личности, поскольку и в самосознании далеко не всегда все отражается в совершенно верном, соответствующем действительности виде. Исследователь и при изучении сознательных процессов, при установлении их истинной связи, их подлинных мотивов и их действительного течения должен идти от признаков, от проявлений, от симптомов к лежащей за ними сущности этих вещей. Еще больше это относится к явлениям непсихологического развития. Легко заметить, что в сущности весь этот вопрос связан с тем, который мы затрагивали в начале нашей статьи, говоря о переходе от феноменалистической точки зрения, изучающей только проявления, классифицирующей явления по их внешним признакам, к кондиционально-генетической, изучающей сущность явлений, как она раскрывается в развитии.


