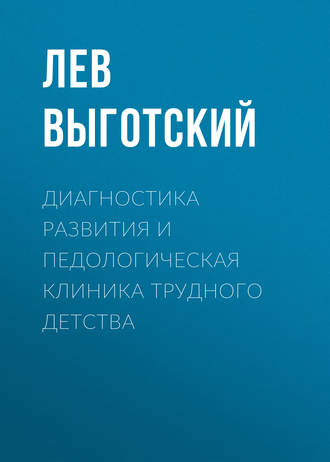
Лев Семенович Выготский
Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства
Основной принцип исследования развития совершенно правильно формулирует Гезелл: «Высшим генетическим законом является, по-видимому, следующий: всякий рост в настоящем базируется на прошлом росте. Развитие не есть простая функция, полностью определяемая икс-единицами наследственности плюс игрек-единицами среды. Это есть исторический комплекс, отображающий на каждой данной ступени заключенное в нем прошлое. Другими словами, искусственный дуализм среды и наследственности уводит нас на ложный путь; он заслоняет от нас тот факт, что развитие есть непрерывный самообусловливаемый процесс, а не марионетка, управляемая дерганием двух ниточек» (1932. С. 218). В другой книге Гезелл говорит, что как у нормальных, так и у ненормальных детей все стадии органически и безостановочно вытекают одна из другой, подобно действию хорошо слаженной драмы, и если мы хотим понять развязку, мы должны следить за всеми актами.
Таким образом, вскрытие внутренней логики драмы детского развития, динамического сцепления между ее отдельными актами и перипетиями составляет основную задачу методики педологического исследования.
Мы не будем подробно останавливаться на основных и первых этапах нашей разработки педологической методики. Отдельные этапы были освещены в свое время в ряде докладов и работ, к которым мы и отсылаем читателя. Здесь мы для понимания преемственности всех этих этапов и для понимания внутренней логики развития основной, защищаемой нами идеи приведем только главные положения, которые были выработаны на предшествующих этапах. Первые положения привели нас к убеждению, что традиционные методы исследования (шкала Вине, профиль Г. И. Россолимо и др.) основываются на чисто количественной концепции детского развития; по существу они ограничиваются чисто негативной характеристикой ребенка. Развитие ребенка, отраженное в этой методике, мыслится как чисто количественный процесс нарастания качественно однородных и равных друг другу единиц, принципиально замещаемых на любой ступени развития. Год развития есть всегда год, идет ли речь о продвижении ребенка от шестилетнего к семилетнему или от 12- к 13-летнему возрасту. Такова основная концепция Вине, у которого год развития измеряется всегда пятью показателями, учитывающими как совершенно равнозначную величину определяемый умственный рост ребенка, будь это рост двенадцатого или третьего года жизни.
Это основное непонимание центральной проблемы развития и возникающих в ее процессе качественных новообразований приводит прежде всего к ложной установке и в отношении количественной стороны развития. Проблемы развития и его организации во времени представлены здесь в искаженном виде, ибо основной закон, гласящий, что в умственном развитии ценность месяца определяется его положением в жизненном цикле, не учтен. Здесь принят обратный принцип. В умственном развитии ценность месяца определяется независимо от его положения в жизненном цикле.
Для профиля Россолимо исходным положением является другое. Единица памяти равна единице внимания независимо от качественного своеобразия психологической функции. В общем итоге, определяющем развитие, единицы внимания подсчитываются наравне с единицами памяти, подобно тому как в голове наивного школьника километры складываются с килограммами в одну общую сумму.
Оба эти момента, т. е. чисто количественная концепция детского развития и негативная характеристика ребенка, отвечают практически чисто отрицательной задаче выделения из общей школы неподходящих к ней детей, потому что они не в состоянии дать позитивную характеристику ребенка определенного типа и уловить его качественное своеобразие на данной стадии его развития. Эти методы стоят в прямом противоречии как с современными научными взглядами на процесс детского развития, так и с требованиями специального воспитания ненормального ребенка.
Современные научные представления о развитии ребенка совершенствуются в двух направлениях, внешне противоположных, но внутренне взаимно обусловленных: с одной стороны, в направлении расчленения психологических функций и выяснения их качественного своеобразия и относительной независимости их развития (учение о моторной одаренности, практическом интеллекте и пр.), с другой – в направлении динамического объединения этих функций, вскрытия целостности личности ребенка и выяснения сложных структурных и функциональных связей между развитием отдельных сторон личности. Развитие ребенка есть единый, но не однородный, целостный, но не гомогенный процесс.
Сложность состава в процессе развития не только не исключает, но предполагает первостепенное значение динамического и структурного объединения всех сторон и процессов развития в единое целое.
Основывающиеся на этих положениях системы исследования ребенка, имеющие задачей его позитивную характеристику, могущую лечь в основу воспитательного плана, строятся на трех главных принципах: разделения добывания фактов и их толкования, максимальной специализации методов исследования отдельных функций (в отличие от суммарных методов, стремящихся исследовать все) и на принципе динамического типологического толкования добытых при исследовании данных в диагностических целях. В этом отношении современная психология трудного детства дает в наше распоряжение не только методические принципы, но и реальные представления относительно природы тех процессов детского развития, которые мы изучаем.
Если взять в качестве конкретного примера проблему исследования умственно отсталого ребенка, можно показать на этом примере огромное богатство тех конкретных данных относительно динамического сцепления и движения отдельных функций, о которых мы говорили выше. Основные принципы динамической характеристики умственно отсталого ребенка были нами сформулированы в свое время в докладе на педологическом съезде. Подробное развитие этих тезисов дано в нашей работе «Основные проблемы современной дефектологии». Уже там сказано о сложности, неоднородности динамического объединения, замещения, разделения вторичных и первичных моментов, – одним словом, сложности структуры умственной отсталости. Идя до тому же пути дальше, мы на психоневрологическом съезде имели возможность доложить результаты наших исследований глухонемого, умственно отсталого и истерического ребенка. Краткое содержание исследований мы снова приводим в этой работе. Мы хотели бы на них остановиться, так как здесь заключена отправная точка дальнейшего развития интересующей нас проблемы. Основным положением, которое может интересовать нас с методической стороны, является констатирование того факта, что при изучении аномального и трудновоспитуемого ребенка следует строго различать первичные и вторичные уклонения и задержки в его развитии. Основным результатом наших исследований был вывод, что уклонения и задержки в развитии интеллекта и характера у аномального и трудного ребенка, как правило, всегда связаны с вторичными осложнениями каждой из этих сторон личности или личности в целом. Методологически правильно поставить вопрос о соотношении первичных и вторичных уклонений и задержек в развитии аномального и трудного ребенка – значит дать ключ к методике исследования и методике специального воспитания этого ребенка. Изучение вторичных осложнений в развитии аномального и трудного ребенка привело нас к установлению весьма важных в теоретическом и практическом отношении конкретных симптомокомплексов, наиболее пластических и динамических по своей природе, которые вследствие этого могут стать основной сферой приложения лечебно-педагогического воздействия. Эти исследования показали, что задержка в развитии высших интеллектуальных функций и высших характерологических слоев личности при олигофрении, глухонемоте и истерии есть вторичные осложнения, уступающие правильному лечебно-педагогическому воздействию.
В сущности, здесь уже заключена вся проблема в целом. Очевидно, нельзя представить дело таким образом, будто та или иная причина непосредственно порождает из себя решительно все проявления, с которыми мы сталкиваемся и которые мы констатируем в качестве симптомов. Отношение симптома к производящей причине неизмеримо сложнее. Если прежде полагали, что какой-либо дефект, например глухота или дебильность, непосредственно приводит к появлению всей известной нам картины, характеризующей развитие данного ребенка, то сейчас мы знаем, что отдельные симптомы находятся в различном и чрезвычайно сложном отношении к основной причине. Симптомы не могут быть выведены непосредственно из дефекта, подобно монетам, вынутым из содержащего их кошелька. Все симптомы не выстраиваются в один ряд, каждый член которого находится в совершенно тождественном отношении к причине, породившей весь ряд. Утверждать это – значило бы игнорировать процесс развития. Между тем картина, которую представляет умственно отсталый ребенок, является продуктом развития. А это значит, что она имеет сложный состав, сложную структуру.
В качестве примера приведем анализ структуры личности умственно отсталого ребенка, которая, до нашим наблюдениям, может считаться типической для ряда дебилов. Оговоримся заранее, что она ни в какой мере не является обязательным путем для развития всякого умственно отсталого ребенка. Вся суть в динамическом сцеплении отдельных синдромов, в их генетической, функциональной и структурной связи, которая никогда не складывается стереотипно, шаблонообразно. В центре или в основе всей картины должна быть поставлена еще недостаточно изученная, но все же в главных чертах выясненная картина дебильности, или ядро дебильности, как можно было бы его назвать в отличие от вторичных, третичных наслоений, надстраивающихся вокруг этого ядра. Первым и наиболее частым осложнением, возникающим как вторичный синдром при умственной отсталости, оказывается недоразвитие высших психических функций (высших форм памяти, мышления, характера, слагающихся и возникающих в процессе социального развития ребенка). При этом замечателен тот факт, что само по себе недоразвитие высших психических функций не обязательно связано с дебильностью. Но очень часто то и другое встречается вместе, так как между обоими этими явлениями существует не механическая, а генетическая и функционально-структурная связь, раскрыть которую не представляет особого труда после ряда специальных исследований, посвященных этому вопросу.
Один из центральных факторов детского культурного развития, как показывает исследование, – сотрудничество. Коллектив как фактор развития высших психических функций выступает на первое место в свете новых исследований. Дебильный ребенок настолько отличается по интеллектуальному уровню от других детей, что происходит его выпадение из детского коллектива и либо он развивается вне детского коллектива, либо, что бывает чаще, линия его развития в коллективе, линия развития социальной стороны его поведения становится резко замедленной, однообразно-тягучей, в связи с тем что его продвижение наталкивается на трудности из-за его слабоумия. Нам приходилось наблюдать множество детей-дебилов, которые годами занимали одру и ту же позицию в детском коллективе, не участвуя активно в его жизни, выпадая из него на каждом шагу. Тем самым обусловливались низшие формы сотрудничества с другими детьми, а следовательно, и недоразвитие социальной стороны поведения и высших психических функций, строящихся в процессе этого развития.
Таким образом, возникает недоразвитие высших психических функций. Оно интересно тем, что хотя и связано с дебильностью, но не непосредственной, а опосредованной связью. Недоразвитие высших психических функций не является прямым и непосредственным следствием слабоумия ребенка, оно является вторичным осложнением, механизм возникновения которого мы пытались схематически только что набросать. Замечателен и другой факт: вторичное осложнение может и не сопровождать дебильность там, где условия развития дебила с самого начала парализуют обе причины, о которых мы говорили выше как об основных факторах, приводящих к возникновению детского примитивизма.
Больше того: нам приходилось наблюдать и такие случаи, когда повышенное культурное развитие дебила, явно не соответствующее развитию его элементарных интеллектуальных функций, являлось как бы центральной сферой компенсации у такого ребенка. Мы склонны думать, что явления аналогичного порядка, правда в односторонней форме, лежат и в основе так называемого салонного слабоумия. Самый существенный вывод из только что изложенного тот, что дебил, следовательно, принципиально способен к культурному развитию, принципиально может выработать в себе высшие психические функции, но фактически оказывается часто культурно недоразвитым и лишенным этих высших функций из-за своеобразной истории развития.
Мы видим уже тот факт, о котором мы хотели бы сказать, забегая вперед, как о центральном по значению для всей области затрагиваемых нами явлений. Этот факт состоит в следующем: различение первичных и вторичных задержек в развитии имеет не только теоретический, но и сугубо практический интерес в том смысле, что вторичные осложнения и задержки оказываются наиболее поддающимися лечебно-педагогическому воздействию там, где непосредственная причина – слабоумие, и, следовательно, прямо вытекающие из нее симптомы не могут быть устранены. Впрочем, о диалектике воздействия на развитие ненормального ребенка в связи со сложностью структуры его личности мы еще будем говорить особо. Перейдем к рассмотрению других синдромов, с которыми мы встречаемся в истории развития умственно отсталого ребенка.
Очень тесно связана с синдромом недоразвития высших психических функций та своеобразная группа симптомов, которую Э. Кречмер выделяет в детской психологии под именем примитивных реакций, противопоставляя их реакциям личности. Под примитивными реакциями следует понимать непосредственные аффективные разряды, не интерполированные через сложную структуру личности. Примитивными реакциями Кречмер называет такие, где раздражение от переживания не проходит целиком через интерполяцию развитой целостной личности, но непосредственно реактивно обнаруживается в импульсивных мгновенных действиях или и в душевных глубоких механизмах, например гипобулического или гипоноического вида. Как то, так и другое, как импульсивные действия, так и реакции гипобулически-гипоноического пласта он находит главным образом у примитивных людей, у детей и у животных. Поэтому он их всех объединяет под названием примитивной реакции.


