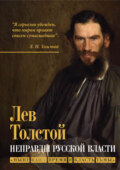Лев Толстой
Полное собрание сочинений. Том 4. Произведения Севастопольского периода. Утро помещика
Глава [4]. Примиренье.[89]
Шкаликъ не являлся. Но когда посланный отъ Князя конторщикъ объявилъ ему, что Аѳенька выкинула, что Князь изволятъ крѣпко гнѣваться и обѣщаются взыскать съ него по законамъ, – а они у насъ до всего сами доходятъ, – прибавилъ конторщикъ, – Шкаликъ трухнулъ. Ему смутно представились острогъ, кобыла, плети, и все это такъ непріятно подѣйствовало на него, что онъ поѣхалъ къ Князю, молча упалъ ему въ ноги, и только послѣ неоднократныхъ требованій встать и объясниться, всхлипывая сказалъ: «виноватъ, Ваше Сіятельство, не погубите!» Трогательное выраженіе раскаянія Шкалика подѣйствовало на неопытнаго Князя.
– Я вижу, ты не злой человѣкъ, – сказалъ онъ, поднимая его за плечи. – Ежели ты искренно раскаиваешься, то Богъ проститъ тебя, мнѣ же на тебя сердиться нечего; дѣло въ томъ, проститъ ли тебѣ Болха и его жена, которымъ ты сдѣлалъ зло? Я позову къ себѣ Болху, поговорю съ нимъ. Можетъ быть все и уладится».
При этомъ юный Князь сказалъ еще нѣсколько благородныхъ, но не доступныхъ для Шкалика словъ о томъ, что прощать обиды лучшая и пріятнѣйшая добродѣтель, но что въ настоящемъ случаѣ онъ не можетъ доставить себѣ этаго наслажденія, потому что обида нанесена не ему, а людямъ, ввереннымъ Богомъ его попеченію, что онъ можетъ только внушать имъ добро, но управлять чувствами этихъ людей онъ не можетъ. Шкаликъ на все изъявилъ совершенное согласіе. Игнатка былъ позванъ въ другую комнату, и юный Князь, очень довольный своей ролью посредника, сталъ внушать Игнаткѣ, очень удивленному тѣмъ, что все дѣло еще не прекратилось таской, которую онъ далъ Шкалику, – чувства любви и примиренія.
– Потеря твоя ужъ невозвратима, – говорилъ Николинька, и, разумѣется, ничѣмъ нельзя заплатить за сына, котораго ты лишился, но такъ какъ этотъ человѣкъ искренно раскаивается и проситъ простить его, то не лучше-ли тебѣ кончить съ нимъ мировой? Онъ, я увѣренъ, не откажется заплатить тебѣ 50 р. съ тѣмъ только, чтобы ты оставилъ это дѣло и забылъ все прошлое. Такъ что-ли?
– Слушаю, Ваше Сіятельство!
– Нѣтъ, ты говори по своимъ чувствамъ, я тебя принуждать не намѣренъ. Какъ ты хочешь?
– На то воля Вашего Сіятельства.
Больше этого Князь ничего не могъ добиться отъ непонимающаго хорошенько, въ чемъ дѣло, Игната, но, принявъ и эти слова за согласіе, онъ съ радостнымъ чувствомъ перешелъ къ Шкалику. Шкаликъ опять на все былъ совершенно согласенъ. Князь, очень довольный приведеннымъ къ окончанію примиреніемъ, перешелъ опять къ Игнату и, слегка приготовивъ его, привелъ къ Шкалику въ переднюю, гдѣ и заставилъ ихъ, къ обоюдному удивленію и къ своему большому удовольствію поцеловаться. Шкаликъ хладнокровно отеръ усы и, не взглядывая на Игната, простился, замѣтивъ, что съ нимъ денегъ только цѣлковый, а что онъ привезетъ остальныя завтра. «Вотъ, – думалъ Николинька, какъ легко сдѣлать доброе дѣло. Вмѣсто вражды, которая могла довести ихъ, Богъ знаетъ, до чего и лишить ихъ душевнаго спокойствія, они теперь искренно помирились.
Глава [5]. Умный человѣкъ.[90]
Шкаликъ, не заѣзжая домой, отправился въ городъ, – прямо въ нижнюю слободу, и остановился у разваленнаго домика чинов[ницы] Кошановой. Исхудалая, болѣзненная и оборванная женщина въ чепцѣ стояла въ углу сорнаго, вонючаго двора и мыла бѣлье. 10-лѣтній мальчикъ въ одной рубашёнкѣ, одномъ башмакѣ съ ленточкой, но въ соломенномъ картузикѣ сидѣлъ около нея и дѣлалъ изъ грязи плотину на мыльномъ ручьѣ, текшемъ изъ подъ корыта, 6-лѣтняя дѣвочка въ чепчикѣ съ засаленными, розовыми лентами лежала на животѣ посереди двора и надрывалась отъ крика и плача, но не обращала на себя ничьяго вниманія.
– Здраствуйте, Марья Григорьевна, – сказалъ Шкаликъ, въѣзжая на дворъ и обращаясь къ женщинѣ въ чепцѣ, какъ бы вашего Василья Федорыча увидать?
– И, батюшка, Алексѣй Тарасычь, – отвѣчала женщина, счищая мыло съ своихъ костлявыхъ рукъ, – 4-ую недѣлю не вижу.
– Что такъ?
– Пьетъ! – грустно отвѣчала женщина.
Въ одномъ словѣ этомъ и голосѣ, которымъ оно было сказано, заключалось выраженіе продолжительнаго и тяжелаго горя.
– Вѣрите-ли, до чего дошли: ни хлѣба, ни дровъ, ни денегъ, ничего нѣтъ, такъ приходилось, что съ дѣтьми хоть съ сумой иди. Спасибо, добрые люди нашлись, дали работу, да и то мое здоровье какое? Куда мнѣ стиркой заниматься? – продолжала женщина, какъ будто вспоминая лучшія времена. Вотъ только тѣмъ и кормлюсь: куплю въ день двѣ булочки, да и дѣлю между ними, – прибавила она, какъ видно съ удовольствіемъ распространяясь о своемъ несчастіи и указывая на дѣтей. А печки мы, кажется, съ Пасхи не топили. Вотъ жизнь моя какая, и до чего онъ довелъ меня безчувственный, а кажется, могъ бы семью прокормить. Ума палата, кажется, по его уму министромъ только-бы быть, могъ бы въ свое удовольствіе жить и семейство… все водочка погубила. —
– A развѣ не знаешь, гдѣ онъ? Мнѣ дѣльце важное до него есть.
Описаніе нищеты подѣйствовало на Шкалика, должно быть, не такъ, какъ ожидала Марья Григорьевна; онъ презрительно посматривалъ на нее и, говорилъ ей уже не «вы», а «ты».
– Говорятъ, на съѣзжей сидитъ. Намедни, слышно, они у Настьки гуляли; такъ тамъ драка какая-то съ семинарскими случилась. Говорятъ, мой-то Василій Ѳедоровичъ въ сердцахъ одному палецъ откусили что-ли. Богъ ихъ знаютъ.
– Онъ теперь трезвый, я-чай?
Женщина помолчала немного, утерла глаза щиколками руки и ближе подошла къ лошади Шкалика.
– Алексѣй Тарасычь! вамъ вѣрно его надо насчетъ бумагъ. Вы сами знаете – онъ вамъ ужъ писалъ, такъ, какъ онъ, никто не напишетъ. Ужъ онъ кажется самому Царю напишетъ. Сдѣлайте такую милость, Алексѣй Тарасычь, продолжала Марья Григорьевна, краснѣя и кланяясь, – не давайте ему въ руки ничего за труды: все пропьетъ. – Сдѣлайте милость, мнѣ отдайте. Видите мою нищету.
– Это ужъ тамъ ваше дѣло. Мое дѣло заплатить.
– Вѣрите-ли, со вчерашняго утра у дѣтей куска хлѣба въ ротѣ не было, хоть бы вы… – но тутъ голосъ Марьи Григорьевны задрожалъ, лицо ее покраснѣло, она быстро подошла къ корыту, и слезы покатились въ него градомъ.
– А пускаютъ ли къ нему? – спросилъ Шкаликъ, поворачивая лошадь.
Марья Григорьевна махнула рукой и, рыдая, принялась стирать какую-то салфетку.
Всѣ, кто только зналъ Василья Феодоровича, отзывались о немъ такъ: «О! умнѣйшій человѣкъ, и душа чудесная, только одно…»
Такое мнѣніе основывалось не на дѣлахъ его, потому что никогда онъ ничего ни умнаго, ни добраго не сдѣлалъ, но единственно на утвердившемся мнѣніи о его умѣ, краснорѣчіи и на томъ, что онъ будто-бы служилъ въ Сенатѣ. «Заслушаешься его рѣчей», говорили его знакомые и въ особенности тѣ, которые обращались къ нему для сочиненія просьбъ, писемъ, докладныхъ записокъ и т. п. Въ сочиненіи такого рода бумагъ для безграмотныхъ людей и состояли съ незапамятныхъ временъ его средства къ существованію въ то короткое время года, въ которое онъ не пилъ запоемъ или, какъ, смягчая это выраженіе, говорили о немъ, – не бывалъ болѣнъ. —
Мы не беремся рѣшать вопроса, дѣйствительно ли существуетъ эта болѣзнь, къ которой особенно склоненъ извѣстный классъ русскаго народа, но скажемъ только одно: по нашему замѣчанію, главные симптомы этой болѣзни составляютъ безпечность, безчестный промыселъ, равнодушіе къ семейству и упадокъ религіозныхъ чувствъ, общій источникъ которыхъ есть полуобразованіе.
Хотя у[мнѣйшій] человѣкъ зналъ отчасти гражданскіе и уголовные законы, но въ бумагахъ, сочиняемыхъ имъ, ясность и основательность изложенія дѣла большей частью приносилась въ жертву риторическимъ цвѣтамъ, такъ что сквозь слова «высокодобродѣтельный, всемилостивѣйше снизойдти, одръ изнурительной медицинской болѣзни» и т. п., восклицательныя знаки и розмахи пера, смыслъ проглядывалъ очень, очень слабо. Это-то, кажется, и нравилось тѣмъ, которые обращались къ нему. Лицо его, украшенное взбитымъ полусѣдымъ хохломъ, выражало добродушіе и слабость; никакъ нельзя было предполагать, чтобы такой человѣкъ могъ откусить палецъ семинаристу.
У[мнѣйшій] человѣкъ небритый, испачканный, избитый и испитой, въ одной рубашкѣ, лежалъ на кровати сторожа и не былъ пьянъ. Онъ внимательно выслушалъ разсказъ Шкалика о дѣлѣ его съ Княземъ. Шкаликъ обращался съ Василіемъ Ѳедоровичемъ съ чрезвычайнымъ почтеніемъ. Узнавъ, что заболѣвшая отъ побоевъ баба была взята въ устроенную недавно Княземъ больницу и уже выздоровѣла, что отъ Князя никакого прошенія не поступало, а должно было поступить такого-то содержанія (Шкаликъ досталъ отъ конторщика черновое прошеніе), что свидѣтель былъ только одинъ, у[мнѣйшій] человѣкъ сказалъ, что никто, кромѣ его, не можетъ устроить этаго дѣла, но что онъ, такъ и быть, берется за него, тѣмъ болѣе, что Шкалику выгоднѣе, вмѣсто того, чтобы платить 50 р. какому-то (Рюрику)[91] мужлану, заплатить ему хоть 15. «Такъ-то, братъ Алешка», – сказалъ онъ, приподнимаясь. – «Такъ точно», – отвѣчалъ Шкаликъ. Послѣ этаго умнѣйшій человѣкъ, не слушая обычныхъ лестныхъ словъ Шкалика насчетъ своего высокаго ума, впалъ въ задумчивость. Плодомъ этой задумчивости были двѣ бумаги слѣдующаго содержанія: 1) По титулѣ: такого-то и туда прошенія, а о чемъ тому слѣдуютъ пункты. 1) Проѣзжая туда-то и туда-то, нашелъ на полянѣ такой-то и такой-то сѣно мое расхищеннымъ (ночью должно было разломать два стога и увезти во дворъ); 2) похитителями были хабаровскіе крестьяне, въ чемъ я удостовѣрился, заставъ ихъ на мѣстѣ преступленія. 3) Увидавъ, что гнусный и преступный замыселъ ихъ открыть, они возъимѣли намѣреніе лишить меня жизни, но всемилостивѣйшее Провидѣніе спасло меня незримымъ перстомъ своимъ и т. д.; 4) и потому прошу, дабы съ злоумышленными похитителями онаго сѣна, и грабителями поступлено было по законамъ. Къ подачѣ надлежитъ туда-то, сочинялъ такой-то и т. д.
2-ая бумага – отзывъ на прошеніе, которое могъ подать Князь.
Въ числѣ похитителей сѣна, означенныхъ въ прошеніи моемъ, поданномъ тогда-то, преждевременно разрѣшившаяся безжизненнымъ плодомъ женщина Аѳенья Болхина не находилась, а поэтому въ несчастіи, ее постигшемъ, я не могъ быть причиненъ. Но, какъ слышно, произошло то отъ побоевъ мужа ея, наказывавшаго ее за распутное поведеніе. Боясь же открыть свое преступленіе помѣщику своему, студенту, князю Нехлюдову, имѣвшему къ выше упомянутой Аѳеньи особенное пристрастіе (что видно изъ того, что она была тотчасъ же взята для пользования на барскій дворъ), вышеупомянутый крестьянинъ Болха ложно показалъ, что она находилась во время покражи моего сѣна и буйства, произведеннаго хабаровскими крестьянами такого-то числа на Савиной полянѣ, и что я могъ быть причиною несвоевременнаго ея разрѣшенія и т. д.
У[мнѣйшій] человѣкъ получилъ тотчасъ же обѣщанные 15 р., изъ которыхъ только полтинникъ, и то съ бранью перешелъ въ руки притащившейся съ дѣтьми въ слезахъ Марьи Григорьевны, а на остальныя же умнѣйшій человѣкъ и министръ продолжалъ быть болѣнъ, т. е. пить запоемъ. Шкаликъ съ радостной улыбкой получилъ, въ замѣнъ 15 р., двѣ краснорѣчивыя, драгоцѣнныя бумаги. Эти-то бумаги находились уже въ его кармазинномъ карманѣ, когда онъ послѣ обѣдни глубокомысленно говорилъ князю: «Всѣ подъ Богомъ ходимъ, Ваше Сіятельство».
Глава [6]. Размышленія Князя.[92]
Юный князь скорыми шагами шелъ къ дому. Прихожане съ любопытствомъ поглядывали на него, замѣчая отрывистые жесты, которые онъ дѣлалъ, разсуждая самъ [съ] собой. Онъ былъ сильно возмущенъ. «Нѣтъ! – думалъ Николинька, – безстыдная ложь, отпирательство отъ своихъ словъ, вотъ что возмущаетъ меня. Я не понимаю, даже не могу понять, какъ можетъ этотъ человѣкъ послѣ всего, что онъ мнѣ говорилъ, послѣ слёзъ, которыя казались искренними, такъ нагло отказываться отъ своихъ словъ и имѣть духу смотрѣть мнѣ въ глаза! Нѣтъ, правду говорилъ Яковъ, онъ рѣшительно дурной человѣкъ, и его должно наказать. Я буду слабъ, ежели я этаго не сдѣлаю. – Но правъ ли я? Не виноватъ-ли я въ томъ, что онъ теперь отказывается? Зачѣмъ я требовалъ эти проклятыя деньги? Мнѣ и тогда что-то говорило, что не годится въ такомъ дѣлѣ вмѣшивать деньги! Такъ и вышло. Можетъ, онъ точно раскаявался, но я привелъ это хорошее чувство въ столкиовеніе съ деньгами, съ скупостью, и скупость взяла верхъ. Точно, 50 р. для Болхи значитъ много, и хотя не полное, но все-таки было вознагражденіе, а для него пожертвованіе 15 рублей было доказательствомъ его искренности. – Разумѣется, ежели-бы я теперь пересталъ требовать деньги, онъ охотно-бы помирился и опять поцѣловался-бы, – вспомнивъ эту, сдѣланную имъ смѣшную сцену между Шкаликомъ и Игнаткой, Князь вздрогнулъ и покраснѣлъ до ушей, – но что же бы это было за примиреніе? комедія. Довольно и разъ сдѣлать глупость. – Главное то, – продолжалъ Князь, нахмурившись и прибавляя шагу, – онъ меня одурачилъ. Я могу за это сердиться, могу желать отмстить ему, потомъ могу смѣяться надъ собой и своимъ сердцемъ, могу забывать и презирать его обиды. Все это будетъ очень любезно, – продолжалъ онъ иронически, – но какое я имѣю право забывать не свои обиды, а зло, несчастіе, которое онъ причинилъ людямъ, которыхъ я обязанъ покровительствовать, обязанъ, потому что они не имѣютъ средствъ сами защищаться. Ежели я оставлю дѣло это такъ, то что-же обезпечитъ не только собственность, но личность, семейство, – самыя священныя права моихъ крестьянъ? Они не могутъ защищать ихъ, поэтому обязанность эта лежитъ на мнѣ. Я самъ не могу защитить ихъ, поэтому я долженъ искать защиты у правительства. Да, я не съ Шкаликомъ буду тягаться, а я буду отстаивать самыя священныя права своихъ подданныхъ. Тутъ нѣтъ ни меня, ни Шкалика, а тутъ есть справедливость, которой я долженъ и буду служить. Николинька въ первый разъ начиналъ тяжбу. Это тревожило его. Хотя онъ и былъ юристомъ въ Университетѣ, но имѣлъ самое смутное и непріязненное понятіе о присутственныхъ мѣстахъ. Поэтому, чтобы рѣшиться имѣть съ ними дѣло, онъ долженъ былъ вызвать въ окружающихъ должное для него понятіе о долгѣ. —
Глава. Иванъ Чурисъ.[93]
Подходя къ Хабаровкѣ, Князь остановился, вынулъ изъ кармана записную книжку, которую всегда носилъ съ собой, и на одной изъ страницъ прочелъ нѣсколько крестьянскихъ съ отметками именъ.
«Иванъ Чурисъ – просилъ сошекъ», прочелъ онъ и, взойдя въ улицу, подошелъ къ воротамъ 2-ой избы съ права.
Жилище Ивана Чуриса составляли полусгнившій, подопрѣлый съ угловъ срубъ, похилившійся и вросшій въ землю такъ, что надъ самой навозной завалиной виднелось одно разбитое оконце – красное волоковое съ полуоторваннымъ ставнемъ и другое – волчье, заткнутое хлопкомъ; рубленные сени, съ грязнымъ порогомъ и низкой дверью, которые были ниже перваго сруба, и другой маленькой срубъ, еще древнее и еще ниже сеней; ворота и плетеная клеть. Все это было когда то покрыто подъ одну неровную крышу, теперь же только на застрехе густо нависла черная гніющая солома, на верху же мѣстами виденъ былъ рѣшетникъ и стропила. Передъ дворомъ былъ колодезъ съ развалившимся срубомъ, остаткомъ столба и колеса и съ грязной лужей, въ которой полоскались утки. Около колодца стояли двѣ старыя, старыя треснувшія и надломленныя ракиты, но все таки съ широкими блѣдно-зелеными вѣтвями. Подъ одной изъ этихъ ракитъ, свидѣтельствовавшихъ о томъ, что кто[то] и когда-то заботился о украшеніи этаго мѣста, сидѣла 8-лѣтняя бѣлокурая дѣвчонка и заставляла ползать вокругъ себя другую 2-лѣтнюю дѣвчонку. Дворной щенокъ, вилявшій хвостомъ около нихъ, увидавъ Князя, опрометью бросился подъ ворота и залился оттуда испуганнымъ дребезжащимъ лаемъ.
– Дома-ли Иванъ? спросилъ Николинька.
Старшая дѣвочка остолбенела и начала все болѣе открывать глаза, меньшая раскрыла ротъ и сбиралась плакать. – Небольшая старушонка, притаившись въ сѣняхъ, повязанная бѣлымъ платкомъ, изъ подъ котораго выбивались полусѣдые волосы, и въ изорванной клетчатой поневѣ, низко подпоясанной старенькимъ, красноватымъ кушакомъ, выглядывала изъ за дверей.
Николинька подошелъ къ сѣнямъ. «Дома, кормилецъ», проговорила жалкимъ голосомъ старушонка, низко кланяясь и какъ будто очень испугавшись. Николинька, поздоровавшись, прошелъ мимо прижавшейся въ сѣняхъ и подперевшейся ладонью бабы на дворъ. На дворѣ бѣдно лежалъ клочьями старый почернѣвшій навозъ. На навозѣ валялся боровъ, сопрѣлая колода и вилы. Навѣсы вокругъ двора, подъ которыми кое-гдѣ безпорядочно лежали кадушки [?], сани, телѣга, колесо, колоды, сохи, борона, сваленныя въ кучу негодныя колодки для ульевъ, были вовсе раскрыты, и одна сторона ихъ вовсе обрушилась, такъ что спереди переметы лежали уже не на углахъ, а на навозѣ. Иванъ Чурисъ топоромъ и обухомъ выламывалъ плетень, который придавила крыша. Иванъ Чурисъ былъ человѣкъ лѣтъ 50, ниже обыкновеннаго роста. Черты его загорѣлаго продолговатаго лица, окруженнаго темнорусою съ просѣдью бородою и такими-же густыми, густыми волосами были красивы и сухи. Его темно голубые, полузакрытые глаза выражали умъ и беззаботность. Выраженіе его рта рѣзко обозначавшагося, когда онъ говорилъ, изъ подъ длинныхъ рѣдкихъ усовъ незамѣтно сливающихся съ бородою, было столько-же добродушное, сколько и насмѣшливое. По грубости кожи глубокихъ морщинъ и рѣзко обозначеннымъ жиламъ на шеѣ, лицѣ и рукахъ, неестественной сутуловатости, особенно поразительной при маленькомъ ростѣ, кривому дугообразному положенію ногъ и большему разстоянію большаго пальца его руки отъ кисти, видно было, что вся жизнь его прошла въ работѣ – даже въ слишкомъ трудной работѣ.
Вся одежда его состояла изъ бѣлыхъ полосатыхъ партокъ, съ синими заплатками на колѣняхъ и такой же рубахи безъ ластовиковъ съ дырьями на спинѣ, показывающими здоровое бѣлое тѣло. Рубаха низко подпоясывалась тесемкой съ висѣвшимъ на ней негоднымъ ключикомъ.
– Богъ помочь тебѣ, Иванъ, – сказалъ Князь. Чурисенокъ (какъ называли его мужики), увидавъ Князя, сдѣлалъ энергическое усиліе, и плетень выпростался изъ подъ стропилъ; онъ воткнулъ топоръ въ колоду и, оправляя поясокъ, вышелъ изъ подъ навѣса.
– Съ праздникомъ, Ваше Сіятельство, – сказалъ онъ, низко кланяясь и встряхивая головой.
– Спасибо, любезный… вотъ пришелъ твое хозяйство провѣдать. Ты вѣдь сохъ просилъ у меня, такъ покажи ка на что онѣ тебѣ?
– Сошки?
– Да, сошки.
– Известно на что сохи, батюшка Ваше Сіятельство, все старо, все гнило, живаго бревна нѣту-ти. Хоть мало-мальски подперѣть, сами изволите видѣть – вотъ анадысь уголъ завалился, да еще помиловалъ Богъ, что скотины въ ту пору не было, да и все то ели ели виситъ, – говорилъ Чурисъ, презрительно осматриваясь. – Теперь и стропила-ти и откосы, и переметы, только тронь, глядишь, дерева дѣльнаго не выдетъ. А лѣсу гдѣ нынче возьмешь?
– Такъ для чего-же ты просилъ у меня 5 сошекъ? – спросилъ Николинька съ изумленіемъ.
– Какже быть-то? старыя сохи подгнили, сарай обвалился, надо-же какъ нибудь извернуться…
– Да вѣдь ужъ сарай обвалился, такъ подпереть его нельзя, а ты самъ говоришь, что коли его тронуть, то и стропилы всѣ новыя надо. Такъ 5 сохъ тебѣ не помогутъ.
– Какого рожна подпереть, когда онъ на земли лежитъ.
– Тебѣ стало быть, нужно бревенъ, а не сошекъ, такъ и говорить надо было, – сказалъ Николинька строго.
– Вистимо нужно, да взять то гдѣ ихъ возьмешь. Не все-же на барскій дворъ ходить! Коли нашему брату повадку дать, то за всякимъ добромъ на барскій дворъ кланяться, какіе мы крестьяне будемъ? А коли милость ваша на то будетъ насчетъ 2 дубовыхъ макушекъ, что на гумнѣ лежатъ, говорилъ онъ, робко кланяясь и переминаясь, такъ тоже я, которыя подмѣню, которыя поурѣжу изъ стараго какъ-нибудь соорудаю. Дворъ-то зиму еще и простоитъ.
– Да и вѣдь ты самъ говоришь, что все пропащее: нынче этотъ уголъ обвалился, завтра тотъ и весь завалится. Какъ думаешь, можетъ простоять твой дворъ безъ починки года два, или завалится?
Чурисъ задумался и устремилъ внимательные взоры на крышу двора.
– Оно, може, и завалится, – сказалъ онъ вдругъ.
– Ну вотъ видишь ли! чѣмъ тебѣ за каждой плахой на барскій дворъ ходить (ты самъ говоришь, что это негодится), лучше сдѣлать твой дворъ заново. Я тебѣ помогу, потому что ты мужикъ старательный. Я тебѣ лѣса дамъ, а ты осенью все это заново и сдѣлай; вотъ и будетъ славно.
– Много довольны вашей милостью, – отвѣчалъ, почесываясь Чурисъ. (Онъ не вѣрилъ исполненію обѣщанія Князя.)
– Мнѣ хоть бревенъ 8 арш., да сошекъ, такъ я совсѣмъ справлюсь, а который негодный лѣсъ въ избу на подпорки, да на накатникъ пойдетъ.
– A развѣ у тебя изба плоха?
– Того и ждемъ съ бабой, что вотъ вотъ раздавитъ кого-нибудь. Намедни и то накатина съ потолка бабу убила.
– Какъ убила?
– Да такъ убила, Ваше Сіятельство, по спинѣ какъ полыхнетъ, и такъ она до ночи, сердешная, за мертво лежала.
– Что-жъ прошло?
– Прошло-то прошло, да Богъ ее знаетъ, все хвораетъ.
– Чѣмъ ты больна? – спросилъ Князь у охавшей бабы, показавшейся въ дверяхъ.
– Все вотъ тутъ не пущаетъ меня, да и шабашъ, – отвѣчала баба, указывая на свою тощую грудь.
– Отчего-же ты больна, а не приходила сказаться въ больницу? можетъ быть тебѣ и помогли.
– Повѣщали, кормилецъ, да недосугъ все. И на барщину, и дома, и ребятишки, все одна. Дѣло наше одинокое, – отвѣчала старушонка, жалостно потряхивая головой.
<Учрежденное Княземъ съ такой любовью и надеждою на несомнѣнную пользу деревенское заведеніе для подаянія простыхъ медицинскихъ средствъ больнымъ крестьянамъ не могло принести пользы въ этомъ случаѣ, котораго онъ не только не предполагалъ, но и даже понять не могъ хорошенько. Это озадачило его, онъ поспѣшилъ перемѣнить разговоръ>.