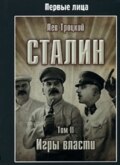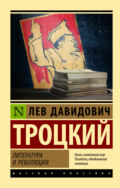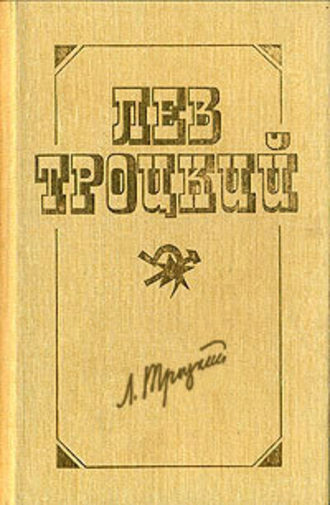
Лев Троцкий
Перед историческим рубежом. Политическая хроника
III. Исторические шансы аграрных мероприятий контрреволюции
Таким образом по своим тенденциям закон 9 ноября представляет собою своего рода contrat social (общественный договор) тех двух классов, которые формально приобщены к законодательству законом 3 июня. Но каковы его фактические завоевания и возможные последствия?
Тов. мин. Лыкошин указал в Думе, что по 15 октября текущего года укрепилось 422.000 домохозяев с 3.200.000 десятин земли. Сколько среди них хуторских (т.-е. не чересполосных) участков, Лыкошин указать не мог, но, по всем данным, хуторские выделы составляют ничтожный процент. Цифра Лыкошина, довольно внушительная сама по себе, не удовлетворила, однако, ни земельной комиссии, ни Думы. Недостаточные успехи закона октябристско-правый блок совершенно основательно объясняет сопротивлением, которое община оказывает экспроприаторским поползновениям своих сочленов. Достаточно, в самом деле, сослаться на то обстоятельство, что из 44.000 укреплений 1907 г. только 7 тысяч, т.-е. менее 16 %, произведены с согласия общины: во всех остальных случаях требовалось вмешательство правительственных властей. Чтобы сломить сопротивление «самоуправной толпы», Дума решилась на героический шаг: все общины, в которых не было общих переделов более 24 лет, она объявила упраздненными. Даже министерство Столыпина остановилось в нерешительности перед этой насильственно-полицейской мерой, которая для экономического процесса устанавливает произвольный срок и при этом совершенно сознательно игнорирует частые переделы (переход наделов от одних семей к другим), посредством которых община поддерживала свое внутреннее «равновесие». Как велико число общин, подпадающих под чисто механическое действие нового закона? По вычислениям идеолога общины Кочаровского[178] – 17 %, по утверждению кадетского депутата Шингарева – 24 – 28 % и, наконец, по правительственным данным – 51 %. Эти цифры так же трудно проверить, как трудно будет на практике положить формальные границы применению нового закона. Ясно, однако, что десятки миллионов крестьян – от 1/4 до 1/2 всего их числа – одним думским голосованием превращены из общинных совладельцев в подворных собственников своих чересполосных участков.
Мало этого. В то время как введенная Думой новая статья, вместо того, чтобы создать юридические рамки для ликвидации общинного права, насильственно экспроприирует его в пользу права подворного, другая статья закона 9 ноября столь же произвольно экспроприирует семейно-подворное право в пользу права единоличного. Несмотря на то, что крестьянские дворы наделены землею по числу «душ», укрепленный участок объявляется неограниченной собственностью главы семьи. Семейно-бытовая собственность, как невмещающаяся в рамки гражданских законов, провозглашается несуществующей, и дети экспроприируются в пользу отца.
Столыпинский закон в его первоначальной редакции опирался на центробежные тенденции внутри общины, ставя себе задачей реализовать эти тенденции к исключительной выгоде «крепких и сильных». Пройдя через Думу, закон обогатился статьей, которая механически расчленяет десятки тысяч общин, независимо от степени и характера их внутреннего разложения. Сорвав с крестьянского землевладения общинный регулятор; закрепив подворные участки в их ужасающей раздробленности и чересполосности; усугубив этим все тягостные стороны взаимной зависимости крестьянских хозяйств и нимало не облегчив их земельной тесноты; наконец, одним ударом передав неограниченное право собственности на эти чересполосные участки главам семейств, – закон 9 ноября, прошедший через законодательную лабораторию 3 июня, широко раскрыл ворота «округлению» участков на одном полюсе деревни и беспорядочному обезземелению на другом.
"Земля потечет, – сказал в Думе черносотенный депутат Образцов[179], произнесший одну из лучших речей во время аграрных дебатов, – потечет страшным потоком в руки кулаков, и мы через несколько лет, может быть через два-три года, уже не менее будем иметь, как 20.000.000 полного земельного пролетариата… Они (эти миллионы) явятся и скажут: «Если наша собственность оказалась не священной, а прикосновенной, так чья ж теперь собственность будет священна и неприкосновенна?» Страх пред этой перспективой заставил правительство уже во время думских прений внести к собственному закону нелепую поправку, воспрещающую скупать в пределах одной общины более 25 десятин: как будто обход этого ограничения может представить серьезные трудности.
Пророчество Образцова продиктовано несомненной контрреволюционной проницательностью. Если б он был более образован, он мог бы сослаться на то, что ликвидация общинного землевладения всегда, даже при более благоприятных для господствующих классов условиях, являлась болезненным процессом и неоднократно приводила к бурным движениям крестьянства. В Англии узурпация общинных земель, начавшаяся в конце XV ст., развивается особенно быстрым темпом в течение XVIII ст., благодаря закону об огораживании общинных земель. Параллельно с этим шла палаческая борьба государства против нищих, воров и бродяг (плети, клеймение, пытки, казни), дополнявшаяся каторжно-благотворительными мероприятиями «в пользу» пауперов. В Саксонском курфюршестве расхищение общинных земель вызвало в 1790 г. массовые крестьянские восстания. Но наиболее интересные аргументы Образцов мог бы извлечь из истории французской революции. 14 августа 1792 г., т.-е. в тот критический период, когда монархия была уже упразднена, но республика еще не установлена, декрет Законодательного Собрания предписал разделение общинных земель. Наряду с последующими мероприятиями Конвента декрет 14 августа[180] был одной из причин отчаянного восстания в Вандее и Кальвадосе. 9 июня 1796 г., т.-е. уже после первых решительных успехов контрреволюции, раздел общин был приостановлен, а 21 мая 1797 г. – воспрещен. На первый взгляд у нас события развиваются в прямо противоположном направлении: закон о разделе общин является первой широкой реформой правительства победоносной контрреволюции, в то время как борьбу против этого закона ведут партии революции. Но внутренний смысл процесса на самом деле совершенно иной. Мерами и приемами контрреволюции Столыпин хочет провести реформу, унаследованную им от не выполнившей своих задач революции, подобно тому, напр., как Бисмарк при помощи прусских пушек и шашек осуществлял объединение Германии, не достигнутое революцией 48 года. Само по себе распадение общины, которая находится в разных степенях внутреннего разложения, неизбежно, – и победоносная революция, несомненно, тоже должна была бы открыть широкий выход центробежным силам внутри крестьянства. Чтобы демонстрировать эту точку зрения, наша думская фракция даже выработала особый законопроект об условиях выхода из общины. Но в обстановке победоносной революции, – что предполагает: экспроприацию дворянства; освобождение крестьянства от всепожирающего фиска; демократию; быстрый рост личности крестьянина, его образовательного уровня и хозяйственной инициативы; наконец, могущественное развитие индустрии, – в этой обстановке личные и хозяйственные элементы разложения общины сравнительно безболезненно поглощались бы новыми производственными образованиями более высокого экономического типа. Эти благоприятные условия не затормозили бы, как надеются народники, а наоборот, крайне ускорили бы распадение общинного землепользования. Но совсем другое дело Россия настоящего дня. Если бы Столыпин – предполагая невозможное! – принял выработанные нашей фракцией нормы выхода из общины и отказался от всякого давления на общину извне, его закон дал бы минимальный результат. Это значило бы детской лопаткой подкапываться под основы аграрной революции. Именно потому, что деревня остается во всей ее дореволюционной земельной тесноте; именно потому, что царизм и милитаризм по-прежнему душат мужика; именно потому, что производительные силы при этих условиях развиваются крайне туго, а местами клонятся к упадку, – именно поэтому Столыпин не может держаться по отношению к общине политики laissez passer (невмешательства), именно поэтому он вынужден консервативной упругости общины противопоставить государственное насилие в лице земского начальника, губернского правления и стоящих за ними казачьих сотен. Чтобы в кратчайший срок вышелушить из разоренной общины значительный слой «крепких» и «сильных», нужны беспощадные меры кесарева сечения. И Дума 3 июня своим замечательным дополнением к закону 9 ноября совершенно обнаженно высказала ту мысль, что никакие, даже самые отважные административно-акушерские меры недостаточны там, где необходимо без промедления вспороть общине брюхо. Если эта работа пойдет успешно, на городские мостовые, на большие и проселочные дороги будут выброшены миллионы безземельных и безработных. Логика контрреволюционных мероприятий заранее предоставляет эту армию «слабых» и «лишних» соединенному действию алкоголя, эпидемий, голода и виселиц. Логика революции требует внесения в эти кадры политического сознания во имя самого отчаянного отпора, ибо дело идет о жизни и смерти. Какая сторона – и в какой мере – победит в этой исторической тяжбе? Это невозможно предсказать. Только борьба может дать ответ. А содержание этого ответа не в последней очереди будет зависеть от нас самих: от активности, решительности и единодушия нашей партии.
«Przeglad Socyal-demokratyczny», 29 (16) декабря 1908 г.
Л. Троцкий. ВОКРУГ МУЖИЦКОЙ ЗЕМЛИ
27 ноября Дума в окончательном виде приняла правительственный законопроект о землеустройстве. Государственный Совет, разумеется, без промедления подпишет, что ему Столыпин укажет. За подписью царской дело тоже не станет. И вот мы вскоре будем иметь – шутка ли сказать: закон о всероссийском крестьянском землеустройстве. Подойдем поближе, вглядимся попристальнее, что это за закон такой.
I. Новые собственники
Кривошеин, главноуправляющий землеустройством и земледелием, выразил задачу правительства и Думы так: «создать миллионы новых земельных собственников». Закон 9 ноября толкает крестьян к закреплению наделов в частную собственность, а принятый Думой законопроект о землеустройстве ведет к разверстанию наделов на хуторские участки. Закон 9 ноября убивает общинное землевладение, – закон о землеустройстве хочет – наряду с чересполосицей и принудительным севооборотом – уничтожить, разметать село. Не наделять маломощных крестьян помещичьей землей, а из 150 миллионов десятин крестьянской и казенной земли выкроить несколько миллионов «крепких» хуторских хозяйств. Создать мужика-фермера, фанатика частной собственности, который, по словам депутата князя Волконского, знал бы единую заповедь: «Чужого не трогай!» Этот хуторянин должен стать несокрушимым оплотом помещичьей собственности – против натиска безземельных и неимущих масс. Разве не заманчиво? Заманчиво, что и говорить, – только у этого дела есть и другая, оборотная сторона.
II. Новые пролетарии
Для хутора нужно в наших условиях никак не меньше 8 десятин. Это признают и правительство и думское большинство. Между тем 2.857.000 дворов, или 23 % всех крестьянских хозяйств, имеют меньше 5 десятин, а 27 % имеет 5 – 8 десятин земли. Значит 50 %, т.-е. как раз половина всех крестьянских дворов, после разверстки получат участки, непригодные для самостоятельного хуторского хозяйства. Куда же денутся эти 6 с лишним миллионов крестьянских дворов? Некоторая часть их закабалится крестьянскому банку и по несуразным банковским ценам прикупит земли. Но подавляющее большинство, наоборот, продаст свои недостаточные участки хуторянам-кулакам. Безземельные кадры деревни страшно увеличатся в числе. Сотни тысяч, миллионы потянутся в города. – Да ведь вы играете в руку социал-демократии, вы насаждаете многомиллионный пролетариат! – пугал октябристов кадет Кутлер. – «Что поделаешь?» – отвечал ему, беспомощно разводя руками, октябристский помещик Шидловский: «Никакими мерами вы нарождение пролетариата не предотвратите».
Такова оборотная сторона их земельного законодательства. Для кулаков – землеустройство. Для бедноты землерасстройство. Создавая кадры новых земельных собственников, обезземеливают миллионы старых. Спасаясь от сословного врага, общинного крестьянина, создают классового врага, сельского и городского пролетария.
III. Кому распоряжаться мужицкой землей
Земельным делом на местах руководят уездные землеустроительные комиссии. Они проводят в жизнь закон 9 ноября, разверстывают надельную землю на хутора, руководят распродажей казенных и банковских земель, подбирают партии переселенцев. Вся судьба крестьянского землевладения ныне в их руках. Кто же входит в состав комиссий? Во-первых: предводитель дворянства, председатель земской управы и земский начальник – т.-е. три чиновника из местных помещиков. Во-вторых: три представителя от уездного земства, снова значит три помещика. В-третьих: член окружного суда и назначенный правительством непременный член, – два чиновника. И, наконец, в-четвертых: 3 – 4 представителя от крестьян. По составу своему землеустроительные комиссии – ни дать, ни взять третья Государственная Дума: 8 помещиков и чиновников да 3 – 4 крестьянина. Значит помещичье-чиновничьи комиссии во исполнение закона, проведенного помещичье-чиновничьей Думой, будут на местах по произволу распоряжаться – не помещичьей, а крестьянской землей. Но ведь за свои наделы крестьяне через посредство государства выплатили помещикам не только полную цену, но и 25 % лишку, – какое же помещикам дело до мужицкой земли? Так-то так, да заповедь: «чужого не трогай!» касается только крестьян, а не дворян. Сила и власть сейчас у помещиков – вот господа предводители дворянства и вооружаются ножницами, чтобы кроить и перекраивать крестьянскую собственность. На этот счет они мастера. Отцы их, консервативные, как и либеральные, в 61-м году на славу обкорнали крестьянские наделы, и при помощи воровских отрезков от общинной земли до сих пор понуждаются крестьяне к кабальной аренде. Этой нарочито созданной чересполосицы столыпинские землеустроительные комиссии, конечно, не уничтожат. Наоборот, по мере сил приумножат ее. Уж они сумеют так разверстать хутора и отруба, чтоб мужику не вывернуться было из помещичьей петли. Эту-то истину каждый крестьянин должен твердо зарубить у себя на носу: не освобождение, а жестокую кабалу несет сельским массам землеустроительная диктатура (господство) помещиков – в центре и на местах.
IV. Кадеты и мужик
«Раз вы хотите на лошади работать, – усовещевал думское большинство кадет Березовский, – вы должны ее накормить. Так же поступите вы и с крестьянином… Накормится он сам, – накормит и вас, как кормил предшествовавшие поколения…»
Что крестьянин рожден для того, чтобы накормить нынешние и будущие дворянские поколения, в этом либеральный депутат не сомневается. Но именно для этой цели не нужно, видите ли, слишком дразнить мужика дворянским засильем. От имени кадетской партии Березовский поэтому предлагал Думе такой состав землеустроительных комиссий: три земца-помещика, два чиновника и пять крестьян. Поровну, по «справедливости», пять против пяти. Но председателем, по кадетскому проекту, предусмотрительно назначается чиновник, а председательский голос решает вопрос, когда комиссия делится пополам. Значит, кадеты не только согласны припустить помещиков к делу разверстания крестьянской земли, но и сознательно готовы дать им вместе с чиновниками перевес над хозяевами этой земли, крестьянами. Чьи же интересы кадеты принимают ближе к сердцу: мужицкие или помещичьи? Подумай об этом, крестьянин!..
V. Крестьянские депутаты и землеустройство
Как же отнеслись к столыпинскому землеустройству депутаты самого крестьянства? Не одинаково.
Начать с трудовиков. Для них новый закон – нож острый. Они представляют интересы деревенских середняков, нетвердо стоящих на ногах хозяев, которые ногтями и зубами вцепились в свои тощие участки, держатся, оторваться боятся. И видят, что думское законодательство с головой выдает их «крепким и сильным». Они упираются, протестуют. Но нет уверенности в речах трудовиков: то грозят, то упрашивают. Хотят крестьянского большинства в землеустроительных комиссиях, но соглашаются там отвести места и для царских чиновников. «Хоть шерсти клок», думают. Но напрасно, клочка шерсти не получат, зато своими колебаниями сбивают с толку деревенские массы.
Послушать иных правых крестьян-депутатов – те же трудовики. «Вы только защищаете свои личные интересы, – бросил Думе в упор правый Амосенок, – а на крестьян швыряетесь!» «Этот законопроект – заявил правый Данилюк – может только послужить для 10 % населения, а 90 % – погибших». Казалось бы, верно? Да суть-то в том, что среди октябристских и правых крестьян преобладают именно представители 10, а не 90 %. Они в ладу со своими дворянскими депутатами, у них свои ходы и в уездные комиссии и к губернатору, – от землеустройства они в накладе не останутся. Данилюки и Амосенки способны еще иной раз сказать думским помещикам пару горьких слов, особенно если вспомнят, что на местах придется давать отчет своим избирателям-крестьянам. Но чуть дело дойдет до решения, до голосования, – и все эти правые мужички покорно и позорно идут в поводу у думского большинства. Так и тут. Попробовали было они настаивать на увеличении числа крестьян в землеустроительных комиссиях, но их припугнули роспуском Думы, утратой депутатского жалованья, – и они мигом поджали хвосты, сомкнули уста и молча предали кровные интересы многомиллионного крестьянства.
Первейший долг каждого сознательного и честного крестьянина – беспощадно обличать шашни и плутни этих предателей пред темными деревенскими массами.
VI. Голос социал-демократии
Ясно, четко и решительно высказала свое отношение к землеустройству контрреволюции социал-демократическая фракция.
– Вы поете, – сказал Думе т. Белоусов, – будто все зло от чересполосицы. Вздор! Мы, социал-демократы, думаем, что злейшим врагом сельскохозяйственного прогресса являются помещичьи латифундии, – колоссальные имения, которые, как кольца удава, обвили крестьянские поля. Наше решение то же, что и в 1905 г.: конфискация помещичьих земель. Кто должен распределять эти земли? Уж, конечно, не вы, господа дворяне и чиновники, а народные землеустроительные комиссии, избранные посредством всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. – Другое препятствие на пути сельскохозяйственного развития – ваша государственная машина, которая поит и кормит вас на народный счет, охраняет ваши латифундии и в то же время душит и истощает мужика. Поэтому мы зовем народ на борьбу с самодержавными землеустроителями, хозяйничающими на русской земле!
Нет более непримиримого врага у этих самодержавных землеустроителей, чем социал-демократия. И тем не менее она – единственная партия, которой нечего бояться столыпинского землеустройства. Всеми своими мерами контрреволюция удесятеряет процесс пролетаризации масс. Быстро растет и складывается многомиллионный сельский пролетариат, которому предстоит великая роль в судьбах нашей страны. Или Столыпин думает, что «слабые», которых он срывает с наделов, так и останутся слабыми? Ошибается! Мы их сделаем сильными. Мы просветим их головы, мы объединим их в союзы, мы свяжем их с рабочими организациями городов, мы соберем их под знамена международного социализма.
Работайте, работайте, самодержавные землеустроители, – мы не отстанем от вас. Энергия наша неистощима, ибо мы твердо знаем и всегда помним: не вам, а нам принадлежит будущее!
«Правда» N 9, 14 (1) января 1910 г.
Л. Троцкий. ЧЕРЕСПОЛОСИЦА И СОЦИАЛИЗМ
«Чересполосица, не объяснимая никакими особенностями почвы, рельефа (поверхности) или водоснабжения, это ли – сказал в Думе министр Кривошеин – не величайшая помеха для всякого улучшения сельскохозяйственной культуры?» Положим, величайшей помехой является сейчас не чересполосица, а сами самодержавные землеустроители в помещичьих и чиновничьих уездных комиссиях, в Таврическом дворце и в министерских канцеляриях. Однако, бесспорно, и чересполосица – великое зло. Только как же правительство с Думой искореняют ее?
Они собираются уничтожить чересполосицу, выросшую из общинных порядков, внутри отдельных хозяйств, – зато не менее горькую чересполосицу мелкой собственности насаждают они в земельном владении всей страны. 80 миллионов десятин, принадлежащих средним и крупным помещикам, они оставляют неприкосновенными в руках владельцев. А 150 миллионов крестьянской и казенной земли хотят разбить на несколько миллионов хуторов. На каждом хуторе – свои орудия, свой скот, своя изба, своя конюшня, свой колодезь, свой огород. Это – на 8 и 10 десятинах! При запашке, при посеве – не с почвой приходится считаться, не с климатом, не с водоснабжением, а с границей владения, с межой, с вехой, поставленной землемером!
Сколько труда человеческого, сколько сил почвенных было бы сбережено на пользу общую, если бы все это сплошное поле в 230 миллионов десятин мог поднять и засеять, подчиняясь только климату и свойствам почвы, один совокупный хозяин и совокупный работник – народ, объединяющий свои силы и средства в социалистическом производстве.
Общинной чересполосице правящие классы противопоставляют слабый, изолированный, беспомощный хутор. Чересполосице хуторского хозяйства пролетариат противопоставляет социалистическую обработку общественной земли.
«Правда» N 8, 21 (8) декабря 1909 г.