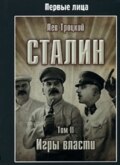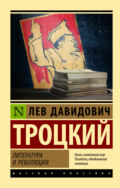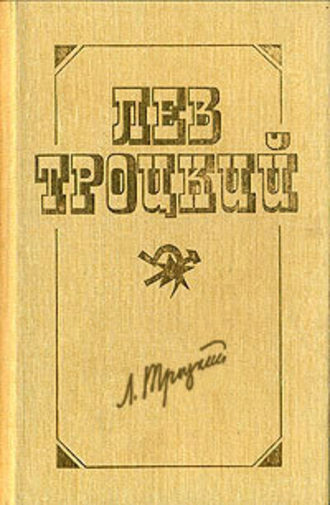
Лев Троцкий
Перед историческим рубежом. Политическая хроника
Л. Троцкий. РАЗЛОЖЕНИЕ СИОНИЗМА И ЕГО ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕЕМНИКИ{22}
Последний сионистский конгресс[79] был демонстрацией бессилия. Люди съехались со всех концов мира, чтобы громогласно заявить: "Мы не подвинулись ни на шаг. Мы исчерпали себя. Мы израсходовали все фонды доверия к нашим методам деятельности. И мы не видим ничего впереди. Султан приласкал г. Герцля[80] (впрочем: кто это видел?), может быть он приласкает его еще раз – а дальше?"
Да, что дальше? Ответ должен был быть найден. Метод мышления отказывал в реальном ответе, психология отчаяния подсказывала фикцию – жалкую, выморочную. Г. Герцль предложил постучаться в Африку. Сношения с Чемберленом или Эдуардом VII[81] – дело идет о британских владениях – Герцль берет, разумеется, на себя. Ему не в первый раз ходатайствовать пред князьями мира за «свой» народ. Этот беззастенчивый авантюрист все еще пожинал на Базельском конгрессе бурные рукоплескания. На съезде представителей «еврейского народа» не нашлось ни одной руки, которая занесла бы бич негодования над этой отталкивающей фигурой… Только истерические рыдания романтиков Сиона огласили в известный момент зал заседаний: Герцль обещал Палестину – и не дал ее.
Впрочем «вождь» не отказывается от Палестины. Его поход в Африку только военная (или, скорее, коммерческая) диверсия. Вот в каких «образах» выясняет свои политические планы г. Герцль, защищаясь от нападок бедных рыцарей – «чистого» сионизма. "Положим, – пишет он в «Welt»[82] после конгресса, – что я хочу приобресть себе дом, хотя бы даже мой, перешедший в чужие руки, отчий дом, – я ведь не отдал себя всецело на милость теперешнего собственника. Я, может быть, сделаю ему прямое предложение (г. Герцль отправляется к султану). Но если он на это не пойдет, если он остается несговорчивым (султан оказался, как мы знаем, гостеприимным, но «несговорчивым»), то я, может быть, даже в известный момент заявлю, что я от дела отказываюсь. Я изберу дом по близости или даже в какой-нибудь отдаленной улице (намек на Африку) и поведу о нем серьезные переговоры… И так дальше", – многозначительно добавляет «вождь» и – умолкает. Вы понимаете, какой это дьявольски коварный план? Притвориться, что покупаешь отечество в отдаленной улице, усыпить мнимо-"серьезными переговорами" на стороне бдительность султана, а затем… затем исторгнуть у него Палестину и преподнести ее еврейскому народу. Одно только смущает нас: что, если статья г. Герцля будет переведена на турецкий язык и представлена султану? Ведь и он тоже может догадаться, какая адская западня скрыта для него за словами «и так дальше».
Как видите, далее этого идти в нахальной «дипломатической» вороватости нельзя. Но нельзя также далее поддерживать жизнь сионизма подобными аляповатыми притчами.
Сионизм исчерпал свое нищенское содержание, и Базельский конгресс был, повторяем, демонстрацией его разложения и его бессилия. Г. Герцль может еще некоторое время прицениваться к тому или другому «отечеству»; десятки интриганов и сотни простаков еще могут поддерживать его авантюры, но сионизм, как движение, уже приговорен к лишению всех прав – на будущее. Это ясно, как полдень.
К такому выводу пришел и автор брошюры «VI сионистский конгресс в Базеле», изданной Бундом. «Ликвидация сионизма началась». Бесспорно. Но кому достанется его клиентела? Другими словами: как распределятся те общественные элементы, которые питались им? «Под ним (сионизмом), – говорит автор, – скрываются вполне реальные интересы известных слоев, и при наличности этих интересов движение не исчезнет, не оставив себе преемника… Будут новые враги, будет новая борьба». Кто же будет этим преемником? Разумеется, разложение сионизма будет, вместе с тем, политическим расчленением того конгломерата общественных слоев, какой представляет собой эта «партия». Для нас в данном случае представляет интерес дальнейшая судьба сионистской левой, состоящей из интеллигентных и полуинтеллигентных представителей буржуазной демократии.
Разочаровавшаяся в сионизме, а значит и потерявшая веру в исход из Египта черты еврейской оседлости при помощи «политики» забеганий с черного крыльца; толкаемая в оппозицию сапогом самодержавно-полицейской репрессии; вынуждаемая к нелегальным методам самообороны правительственной практикой кишиневских и гомельских событий, – бывшая левая сионизма будет неизбежно вдвигаться в революционные ряды. Современная национальная позиция Бунда, оторвавшегося от партии, облегчит этот процесс. Армия Бунда станет пополняться теми, в ком только что цитированный автор хочет почему-то непременно видеть «будущих врагов». Почему же? Они могут стать и добрыми друзьями. И, вообще говоря, нельзя желать ничего лучшего, как превратить врага в друга. Остается только спросить: способен ли Бунд безболезненно ассимилировать демократическое крыло отчаявшихся сионистов? И мы боимся, что на этот коренной вопрос нельзя ответить утвердительно.
Не раз указывалось, что националистические тенденции проникли в Бунд из буржуазных сфер сионизма. Но такое утверждение может показаться абсурдным. Разве не вскрывали публицисты Бунда реакционный характер сионизма? Разве не ведет Бунд с этим течением ожесточенной борьбы? Разве имя Бунда не вызывает у доброго сиониста припадков бешенства? Все это совершенно верно. Но дело в том, что именно внутренняя логика этой самой борьбы с сионизмом и вливала националистическое содержание в политическую агитацию Бунда. Политическая борьба чаще всего бывает в то же время политической конкуренцией, в которой многому научаются от врага. Находясь в атмосфере повышенного национального самочувствия, имея самодержавие перед собой и сионизм за собою, Бунд должен был настаивать на том, что именно он представляет подлинные национальные интересы еврейских масс. Став на эту почву, он оказался не в силах установить настоящее соотношение между национальным и классовым моментами. Тут над частной судьбой Бунда тяготела трагическая судьба нашей партии после 1898 г. Организационная изолированность «Бунда» вогнала революционную энергию его работников в тесный резервуар и безжалостно сдавила – по-видимому, надолго – политический горизонт его вождей.
«Чем меньше число индивидуумов, участвующих в данном общественном движении, чем в меньшей степени движение это является движением массовым, – тем меньше выступает в нем наружу всеобщее и закономерное, тем больше преобладает в нем случайное и личное» (Каутский, «Соц. революция»). Пролетарская партия может ограничиваться только политическими, т.-е. государственными рамками. Лишь в этом случае «всеобщее и закономерное», т.-е. принципы социал-демократии, залягут в основу движения. Сфера деятельности Бунда характеризуется не государственным, а национальным признаком. «Бунд – организация еврейского пролетариата», – ко времени первого съезда это положение имело не политический, а технический (в широком значении) смысл. Бунд был партийной организацией, приспособленной для работы в тех местах, где большинство населения говорит на еврейском языке. При «попустительстве» партии, которая, в силу своей раздробленности, слишком часто играла роль торжественной фикции, «случайное» или «частное» получило преобладание над «общим» и «закономерным». Организационно-технический факт возвел себя в национально-политическую «теорию». Пятый съезд Бунда[83], предшествовавший второму съезду партии, выдвигает, как известно, новый тезис: «Бунд – социал-демократическая, неограниченная в своей деятельности никакими районными рамками организация еврейского пролетариата и входит в партию в качестве его единственного представителя». Так разрешилась внутри Бунда тяжба между частным и всеобщим. Если прежде, по крайней мере, по замыслу, Бунд был представителем социал-демократической партии в среде еврейского пролетариата, то теперь он превращается в представителя интересов еврейского пролетариата пред социал-демократической партией. Мало того. «Выступление от имени всего пролетариата определенной территории, на которой, кроме других, входящих в партию организаций, действует и Бунд, допустимо лишь при участии последнего». Все передвинулось: классовая точка зрения подчиняется национальной, партия ставится под контроль Бунда, всеобщее отдается под начало частному.
Выход Бунда из партии является последним моментом и результатом этой пятилетней эволюции. И, в свою очередь, факт полного «официального» обособления Бунда неизбежно послужит отправным базисом дальнейшего развития Бунда в сторону национализма. Говорим: неизбежно, ибо над доброй волей руководителей Бунда тяготеет злая воля их национально-политической позиции. Как бы историческим «знамением» является тот факт, что выступление Бунда из партии совпало с моментом фатального кризиса в сионизме. Эмансипировавшись от контроля «общего» и «закономерного», Бунд настежь распахнул двери «частному». Взятый объективно, он представляет теперь организационный аппарат, как нельзя более пригодный для совлечения еврейского пролетариата с пути революционного социал-демократизма на путь революционно-демократического национализма. Конечно, в субъективном сознании вождей Бунда сохранилось еще достаточно социал-демократических «переживаний», чтобы бороться против такого совлечения. Но логика фактов сильнее, чем косность мысли. Выводы, на которые отваживаются сегодняшние руководители Бунда, будут сделаны завтра теми, которые придут им на смену. Построив свою теперешнюю позицию под национальным углом зрения, Бунд облегчил переход в свои ряды элементам, мысль которых не стеснена социал-демократическими традициями. Они придут – они идут уже – и властно отстранят тех, которые покажутся им «доктринерами». Конечно, Бунд надолго сохранит социалистическую фразеологию, – как сохранила ее до настоящего дня П. П. С.[84]. Это, однако, нисколько не помешает ему – наоборот, поможет – выполнить ту политическую функцию, которую с таким успехом выполняет хотя бы та же П. П. С., именно: поглощение классовых интересов пролетариата националистическими интересами революционной демократии. Да, публицист Бунда прав: сионизм «не исчезнет, не оставив преемника». Но этим преемником может оказаться Всеобщий Еврейский Рабочий Союз в Литве, Польше и России.
«Искра», N 56, 1 января 1904 г.
3. Против социалистов-революционеров
Л. Троцкий. ОПЕКАЕМОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
Всероссийский студенческий съезд 1902 г.[85] нашел, как известно, желательным, чтобы студенческие организационные комитеты «состояли в сношениях с местными комитетами Рос. С.-Д. Раб. Партии». В настоящее время Киевский Союзный Совет объединенных землячеств и организаций и Организац. Комитет Киевского Политехнич. Института выступают против резолюций съезда с «Открытым письмом»[86]. Своему протесту авторы его придают почему-то дипломатически-замаскированную форму, заявляя, что они не думают «вторгаться в сферу компетенции съезда» и предлагают лишь «более широкое толкование» одного из параграфов Манифеста Всероссийского Студенческого Съезда. «Студенчество, как таковое, – говорят авторы „Откр. Письма“, – не может примыкать всецело ни к партии соц. – рев., ни к соц. – дем. Студенчество, как таковое, представляет из себя источник, из которого вербуют себе членов как обе указанные партии, так и другие революционные организации и группы. В силу этого, студенчество не может отдавать предпочтение той или иной революционной фракции». Мы не можем согласиться с мотивировкой авторов «Откр. Письма». Предлагая студенческим организационным комитетам вступать в сношения с соц. – дем. комитетами, съезд, разумеется, не обязывал революционное студенчество принимать всю программу соц. – демократии. Соответственная резолюция имела в виду сближение с партией, но не вступление в партию. «Студенчество, как таковое», т.-е. как коллективный автор университетских беспорядков, демонстраций и политических резолюций, имеет свою физиономию, независимую от взглядов тех или иных входящих в его состав студентов. Эта физиономия – демократическая. На почве революционно-демократических требований «студенчества, как такового» (только от его имени и мог говорить съезд, не посягавший, разумеется, на убеждения отдельных студентов-революционеров) возможен и желателен его союз с революционным пролетариатом. Ввиду того, что между соц. – дем. и соц. – рев. существует так наз. «междуфракционная» (в сущности, гораздо более глубокая) борьба, перед демократическим студенчеством стоит задача политически-разумного выбора, а поскольку преобладающую роль в рабочем движении играет соц. – демократия в лице своих местных комитетов, резолюция съезда является политически-целесообразным актом.
Вопрос, однако, поставлен жизнью не так. Лучшая часть студенчества уже не удерживается на чисто-политической почве февральских «резолюций» этого года и проявляет все усиливающиеся тяготения в сторону социализма. Мы можем лишь приветствовать это течение, и если оно связано с расколом, – мы приветствуем раскол! Суеверный страх перед «разделением», хотя бы это разделение было глубоко-прогрессивно по существу, мы предоставляем соц. – револ. Там он на своем месте.
«Рев. Рос.» (N 13), верная своим «соц. – револ.» методам – погребения реальных противоречий под мавзолеями «объединительных» фраз, – и на этот раз, вместо того, чтобы углубиться в вопрос, отделывается общими добродетельными местами и неустанно
«Льет примирительный елей»…
Газета «с удовольствием» (еще бы!) печатает «открытое письмо» организованного киевского студенчества и выражает уверенность, что «студенты других городов вполне согласятся с киевлянами, что не следует вводить в студенчество междуфракционной борьбы, столь вредной для успеха революционно-социалистического дела».
«Рев. Рос.», как видим, говорит о студенчестве не только как о революционно-демократической молодежи, но как об отряде, ведущем революционно-социалистическую (не просто демократическую) борьбу. Что же может рекомендовать «Рев. Рос.» этому студенчеству, стоящему перед фактом «междуфракционной» борьбы соц. – дем. и соц. – рев.? Создать «для успеха револ. – социалистического дела» какую-нибудь «объединенную организацию» студентов соц. – рев. и студентов соц. – дем. рядом с уже существующими и борющимися партиями? Или заранее отказаться от углубления в смысл фракционных разногласий, а значит и от социалистической работы, ибо последняя предполагает выбор партий, а следовательно и раскол, «столь вредный для успехов» примирительской политики мелкобуржуазных революционеров? Итак – назад? Но ведь и та чисто-"политическая" борьба студенчества, которая выразилась в февральских «резолюциях», повела к расколу между академиками и политиками… В среде самих «политиков» рядом с демократическим большинством могут оказаться студенты, тяготеющие, под влиянием «отцов-умеренных», в сторону цензового либерализма, представленного г-ном Струве. Не отойти ли, во избежание раскола, назад и от политики?
Правда, «Рев. Рос.» ограничивает почему-то вред раскола лишь «революционно-социалистическим» студенчеством. Но неужели же достаточно назвать глубокие и все углубляющиеся разногласия между соц. – дем. и соц. – рев. «междуфракционной» борьбой, чтобы утратил в глазах мыслящей части студенчества весь смысл тот факт, что одна из «фракций» (чего?) считает авантюристскую тактику другой «фракции» вредной для успехов революционно-социалистического дела? Не пора ли, г-да соц. – рев., бросить эту негодную тактику недомолвок, этот язык «огорченности», эту дипломатию… страуса!
А членам Союзного Совета, от которых, конечно, нельзя требовать большой политической опытности, мы скажем так:
В области политики добрая ссора нередко выгоднее худого мира. Политические союзы опираются на отчетливо сознанную общность интересов, а не на затушевывание противоречий в задачах и методах борьбы.
3 ноября, т.-е. через три недели после издания «открытого письма», Киевский Союзный Совет выпустил прокламацию в память Балмашева[87], в которой засвидетельствовал свое тяготение к партии соц. – рев. Этот факт бросает отраженный свет и на самое «открытое письмо». Оно представляет собою не распространенное «толкование» резолюции общестуденческого съезда (какая наивная «примирительская» софистика!), а категорический протест против стремления этого съезда связать борьбу студентов с борьбой соц. – демократии. Насильно мил не будешь! можем мы сказать Киевскому Союзному Совету, – но негоже прикрывать свои истинные симпатии и антипатии салонными, а не политическими речами о том, что «студенчество не может отдавать предпочтения той или иной революционной фракции». Не может? Оно должно! Если только, конечно, оно не соглашается оставаться в приготовительном классе школы революционного развития…
Оно должно, – а соц. – дем. остается только пожелать, чтобы академическая молодежь серьезно относилась к вопросам революционной теории, которую теперь в моде третировать, как каналью. Знакомство с царством социалистической мысли несомненно убедит, что вне марксизма, как боевой теории пролетариата, возможны революционные фразы, в лучшем случае – революционное настроение, но невозможно научное революционное мышление. Академическая молодежь могла снова удостовериться в этом на примере русских «критиков» революционного марксизма, которые крайне ускоренным темпом прошли, казалось бы, немалый путь от социализма до благоумеренного либерализма (г. Струве) или даже до христианской теософии (г. Булгаков). Можно с уверенностью сказать, что своеобразный теоретический «нигилизм» некоторых революционных групп скомпрометирует себя своею беспринципностью так же неоспоримо, как и «критическое» неистовство – своим оппортунизмом и идейною реакционностью, И тогда обновленный в идейной борьбе научный социализм снова безраздельно овладеет умами мыслящей академической молодежи, как это было в начале 90-х годов, когда марксизм эмансипировал прогрессивную общественную мысль от пережитков народничества.
Вступление «академика» в ряды соц. – демократии налагает на него серьезные теоретические обязательства. Марксизм не схватывается на лету. Он требует углубления и углубления. Он требует, далее, строго критического отношения ко всяким якобы «критическим» посягательствам разложить революционную доктрину пролетариата привнесением в нее некритических элементов буржуазной идеологии. В работе очищения, охранения и развития пролетарского социалистического учения революционеры-академики всегда найдут себе место, и революционный пролетариат всегда скажет им: «Добро пожаловать!»
«Искра», N 31, 1 января 1903 г.
Л. Троцкий. КАК ОНИ «ПРИМИРЯЮТ»
Горе тем, которые говорят: мир, мир – а мира нет. Горе тем, которые называют горькое сладким и сладкое – горьким.
В передовой статье N 17 «Рев. России» наша заметка (в N 31) об «опекаемом студенчестве» объявляется «бестактной». Почему? Мы стремимся научить студентов «легкому ремеслу разъединений и расколов» вместо того, чтобы преподать им курс «солидарной и дружной работы». Упрек старый, как социал-демократия! «Наиболее сознательная часть студенчества, – говорит „Р. Р.“, – считала и возможным и нужным создать широкую организацию студенчества на некотором общестуденческом деле»… «Неужели же могут мешать, – недоумевает газета, – общестуденческие организации революционным организациям?» Действительно, чем провинились перед нами «общестуденческие организации?» За что мы хотим их «уничтожить», внеся в их среду «разделение и разъединение, дезорганизацию», мор, глад и все остальное?.. Нашей дезорганизаторской мании противопоставляется разум одесского студенчества, заявившего, что «студенчество в целом сходится с обеими партиями (соц. – дем. и соц. – рев.) на почве борьбы за политическую свободу, видя в них крупнейшую силу в деле свержения самодержавия».
Прекрасно. Но где и когда мы отрицали за студенчеством право организоваться на «общестуденческом деле?» «Студенчество, как таковое, – писали мы, – то есть как коллективный автор университетских беспорядков, демонстраций и политических резолюций, имеет свою физиономию, независимую от взглядов тех или иных входящих в его состав студентов. Эта физиономия – демократическая». Но если студенчество получило такую физиономию, если оно сделалось агентом политического революционизирования русского общества, то исключительно благодаря тому, что почувствовало за стенами университета революционное дыхание пролетариата. Тяготение революционного студенчества к рабочим есть глубоко поучительный факт последних лет. Общестуденческий съезд 1902 г. вполне правильно отразил это тяготение, когда выразил пожелание, чтобы студенческие комитеты состояли в сношениях с комитетами социал-демократии, как партии пролетариата{23}.
Вот подлинные слова «Манифеста», которые революционное студенчество никогда не должно забывать: «Констатируя факт совместных действий за последнее время студентов и рабочих, приветствуя от души это явление и выражая желание большего единения учащейся молодежи и пролетариата, идущих нога в ногу по пути требования политической свободы, являющегося первым пунктом социалистической программы, съезд находит желательным возможно широкую пропаганду социалистических идей среди студентов. Последнее необходимо для ясного понимания роли и степени участия пролетариата в нашем движении. Для лучшего достижения этой цели съезд находит желательным учреждение при всех высших учебных заведениях постоянных организационных комитетов, состоящих в сношениях с местными комитетами Российской Социал-Демократической Партии, к которым съезд обращается с предложением оказать содействие проектируемым организациям».
И эту резолюцию мы называли политически-целесообразным актом, – ибо поскольку студенчество выступает «на почве борьбы за политическую свободу», оно не может не искать поддержки у революционной партии, которая боролась до него, которая борется впереди него, – поскольку оно вступает в мир социалистических идей, оно не может не искать руководства у партии, опирающейся на принципы научного социализма. Может быть, социалисты-революционеры скажут, что такую политическую поддержку и такое идейное руководство могут представить они сами? Прекрасно! Но ведь этим не обходится вопрос о выборе? Да и нельзя его обойти. Помните, что «революционная партия» – только понятие, только отвлечение. Такой партии нет. Есть партия социал-демократическая, есть партия социалистов-революционеров. Можно «сходиться» с обеими партиями на почве борьбы за политическую свободу, но нельзя зараз становиться к обеим в определенные организационные отношения, раз между самими партиями не существует организационной связи. Можно об этом жалеть, можно это порицать, но нельзя это игнорировать. Нельзя забывать, что политический союз – как бы он скромен ни был – налагает на обе стороны определенные политические обязательства. Студенческий съезд вполне правильно поставил вопрос на почву постоянных «сношений», на почву политического союза, сказали бы мы, если б это не было слишком громко. Отсюда он необходимо должен был прийти к вопросу: союза – с кем? И политический разум заставил его обратиться в сторону социал-демократии. Прежние студенческие съезды не делали таких разграничений, жалуется «Рев. Рос.». Прежние съезды… Но ведь они происходили до вашего рождения, коллега. Тогда не было необходимости выбора, ибо не было возможности выбора. Вас не было. Социал-демократия была одинокой.
Нет, мы совсем не Джеки-потрошители всяких «самостоятельных, нам не подчиненных» групп – не пожиратели организаций, основанных на «общестуденческом деле» – «освободительной борьбе с самодержавным режимом». Но мы находим нужным за комбинацией слов искать комбинации понятий.
«Борьба с самодержавным режимом»? – несомненно эта задача лишь с большими оговорками может быть названа «общестуденческим делом». Когда союзные советы обслуживали нужды взаимопомощи студентов, – они не переходили за порог университета. Когда лозунгом организованного студенчества стало требование отмены временных правил или восстановления устава 1863 г.[88] – движение все еще оставалось чисто «академическим». Но репрессии совершали свое воспитующее дело. Школа русской военной службы сделалась для студента военной школой русской революции. В начале прошлого года движение стало уверенной ногой на революционно-политическую почву. С этого момента оно перестало быть общестуденческим, оно стало общедемократическим. Но оно перестало быть и общестуденческим, так как выступление на широкую арену демократической борьбы было связано с расколом в среде оппозиционного студенчества: «академики» с протестами оставляли сходки, на которых принимались революционно-политические резолюции. И мы спрашиваем нашего грозного, но несправедливого обличителя со страниц «Рев. Рос.»: как он оценивает этот раскол? И какая из расколовшихся сторон играла прогрессивную роль: та ли, которая требовала, чтобы во имя «студенческого дела» студенты не переходили на почву политики и не изменяли «трудному делу солидарной работы», – или другая, с легким сердцем усвоившая «ремесло разъединений и расколов»? Мы боимся, что этот вопрос может поселить «раскол» даже в девственно-примирительном сердце нашего критика…
Пойдем далее. Киевский Союзный Совет не удержался на голой почве резолюций 1902 г., – да и не мог удержаться: его толкала внутренняя логика революционной работы. Выдвинув радикальную демократическую программу, студенчество стало лицом к лицу с задачами революционной тактики. К этому времени благополучно родилась Боевая Организация, – и студенчеству пришлось решать вопрос о систематическом терроре. Киевский Союзный Совет сказал свое террористическое «да»{24}. Тем самым он сказал социал-демократии свое «нет». Это его право. Но не перенес ли он «междуфракционные» разногласия в «общестуденческое дело»? И мог ли он их не перенести? И нет ли тут ущерба так называемой «дружной и солидарной работе»? Или ущерб устраняется наивно-политиканским заявлением, что «студенчество не может отдавать предпочтения»?..
А сама «Рев. Рос.», объясняет ли она оберегаемому ею от раскольников студенчеству весь вред террористических тяготений, от них же разделение, разъединение и дезорганизация, – ибо, насколько известно, террор не составляет «общестуденческого дела»? Нет, не объясняет. Наоборот, она находит, что студенчество «высказало политическое чутье, выдвинув из своей среды героя Карповича»[89]. Конечно, в этой полумистической полусимволической фразе нет никакого содержания. Но цель ее, разумеется, – поощрить студенчество к дальнейшим проявлениям «политического чутья». Насколько нам известно, террор не принадлежит к тем пунктам революционной тактики, которые способствуют всеобщему «примирению». Не думает же «Рев. Рос.», что террористическое «чутье» успело сделаться «внефракционным» качеством.
Конечно, не думает – и, тем не менее, выражает надежду, что «социалистическая часть студенчества будет стремиться… чтобы студенчество поддерживало всеми силами все проявления освободительной и (?) революционной борьбы – будут ли то рабочие демонстрации, террористические акты, вроде Карповича или Балмашева и т. п.». Далее, от той же «Рев. Рос.» мы слышали, что «рабочие демонстрации» могут оказывать деморализующее влияние и что до поры до времени их уместно заменить «террористическими актами, вроде Карповича или Балмашева». Социал-демократия этого не думает. Как же быть опекаемому студенчеству, которое «не может отдавать предпочтения»?..
Да, пора читателям «Рев. Рос.» расшифровать немудрые «примирительные» шифры «органа партии соц. – рев.». Пора понять, как пустошны, как фальшивы безбрежные речи о «примирении» и «объединении» со стороны тех людей, которые по всей линии ведут ожесточенную борьбу против пролетарского мировоззрения!..
Всюду и везде они стараются сеять скептицизм, голый скептицизм к основам научного социализма и к методам классовой пролетарской борьбы, – и эту свою «критическую» работу они прикрывают глубокомысленно-авторитетными фразами на тему о том, что «самостоятельно выработанные убеждения» важнее «легко наклеиваемых фракционных ярлыков», что «революционные организации» (не в пример «Искре») могут приветствовать развитие объединенного студенческого движения и пр. и пр. По поводу этих банальностей мы можем лишь с недоумением пожать плечами и подивиться, как это мыслящие люди могут не задохнуться в атмосфере, насквозь пропитанной азбучными испарениями.
«Искра» N 35, 1 марта 1903 г.