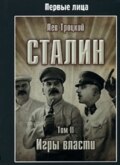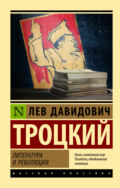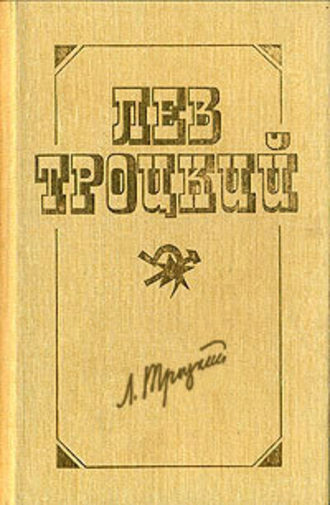
Лев Троцкий
Перед историческим рубежом. Политическая хроника
IV
Должны ли мы поддерживать на выборах буржуазную демократию? И если должны, то почему? И на каких условиях?
Мы недавно слышали на первый вопрос авторитетный ответ тов. Плеханова[104], который можно формулировать так: мы должны поддерживать либеральную оппозицию, чтобы изолировать реакцию. Этот ответ безукоризненно правилен; к сожалению только, он идет навстречу другому, гораздо более общему вопросу, а не тому, который сейчас стоит перед нами. Мы должны поддерживать либеральную оппозицию, – но разве отсюда прямо следует, что мы должны поддерживать ее парламентские кандидатуры? Прежде, чем ответить: да! – нужно выяснить, в каком отношении стоит данная парламентская кампания к развитию либеральной оппозиции. Мы должны изолировать реакцию, – но разве эта задача сводится к тому, чтобы не дать реакции кресел в зале Таврического дворца? И не должны ли мы прежде всего рассмотреть, какое место займет наша поддержка либеральной оппозиции в нашей общей работе, которая действительно изолирует реакцию, изгоняя ее из сознания народных масс.
Наши методы «поддержки» и «изоляции» вовсе не совпадают с теми, какие вырабатываются либеральными профессорами гельсингфорского съезда. Интересы самой либеральной оппозиции в ее целом мы понимаем вовсе не так, как ее временные вожди. И я думаю, что развитие буржуазной демократии, хотя бы только за последние два года, достаточно показало, на чьей стороне находится более глубокое понимание этих интересов. Я этим вовсе не хочу сказать, что мы не должны в известных случаях поддерживать своими голосами кандидатов буржуазной демократии, – но только я думаю, что у нас для этого имеются другие причины, более реальные, более соответствующие характеру того исторического дела, какое мы делаем.
Каждая новая революционная ситуация требует от нас, чтобы мы использовали ее, во-первых, для самостоятельной организации пролетариата, во-вторых, для вовлечения широких демократических масс в прямую революционную борьбу.
Всякий наш шаг, содействующий этому второму результату, и есть та поддержка, которую мы оказываем буржуазной демократии, как социально-политической силе, – хотя, делая такой шаг, мы можем становиться в самые различные отношения к тем или другим оппозиционным организациям, отражающим временный уровень развития демократических масс. Этого могут не понимать кадеты, – одна из таких временных организаций, – но мы-то этого никогда не должны забывать.
Бессильная Дума, противостоящая вооруженному абсолютизму, создает революционную ситуацию, т.-е. такое противоречие, из которого нет выхода на «конституционном» пути. И если я пришел к заключению, что в Думу приходится послать кадета, так это, прежде всего, для того, чтобы скомпрометировать его. Если я призываю социал-демократических избирателей или выборщиков голосовать за кадетов, так это вовсе не потому, чтоб я думал, будто опустить в деревянную коробку листок с фамилией господина Петрункевича значит прямо и непосредственно поддерживать демократию. О, нет! Демократию я в данном случае поддерживаю тем, что ставлю ее сегодняшних вождей в революционное положение – и тем компрометирую их. Отсталую буржуазную демократию, ту, которая своим преобладанием вынудила меня голосовать за кадета, я этой «поддержкой» толкаю вперед, а кадета поддерживаю так, как веревка поддерживает повешенного.
Мне могут сказать: «Пусть так. В сущности, это сводится к тому же. Ваши соображения не имеют никакой самостоятельной силы. Факт остается фактом. Вы голосуете за кадета, следовательно, вы поддерживаете кадета».
Конечно, отвечу я, факт всегда остается фактом, но что в данном случае является для нас решающим фактом? избирательная бумажка, опускаемая в деревянную коробку, или та революционно-социалистическая агитация, которую мы развиваем во время выборов, – выдерживая один и тот же тон и в том случае, когда мы непосредственно конкурируем с кадетским кандидатом, и в том, когда мы поддерживаем кадета против октябриста?
Столь горячо дебатировавшийся в нашей партии вопрос, – на каком этапе нашей избирательной вавилонской башни допустимо поддерживать непролетарских кандидатов, – имеет несомненно серьезное значение; но я смею думать, что это все же вопрос второго порядка. Первое место занимает вопрос о той политической идее, которая проникает нашу агитацию и придает однородный смысл нашим действиям и тогда, когда мы призываем население голосовать за тов. Плеханова, и тогда, когда мы призываем избирателей подавать голоса за кадетских выборщиков, и тогда, когда мы рекомендуем нашим выборщикам помочь г. Милюкову перешагнуть через порог Государственной Думы.
Некоторые товарищи придают, на мой взгляд, непропорционально большое значение тому, на какой стадии выборов произойдут соглашения: в одном случае, – говорят они, – мы призываем массу голосовать за кадетов, в другом – группу выборщиков. Разница, несомненно, очень существенная; но ведь никто же из нас, конечно, не думает, что выборщики должны поддерживать кадетов без ведома массы. Наоборот, самый смысл нашего участия в выборах требует, чтобы каждый шаг наших уполномоченных или выборщиков был известен и понятен массе. Известным он станет и помимо нас, но понятным можем его сделать только мы. И мы, разумеется, должны будем это сделать, если не захотим, чтобы масса пришла к выводу, что выборщики социал-демократы обманули ее, продавшись кадетам. Но если, ведя непримиримую агитацию против кадетов и призывая массы всюду и везде голосовать только за социал-демократических выборщиков, мы в то же время считаем вполне возможным выяснить массам, почему наши выборщики в известных случаях голосовали за кадетов, – то не можем ли мы в других случаях, сохраняя ту же самую агитационную позицию, призывать избирателей непосредственно голосовать за кадетов? Я думаю, что принципиальной разницы здесь нет; оба приема предполагают совершенно одинаковый политический уровень избирателя. В Европе соглашения обычно происходят на перебаллотировках; такой порядок представляет многие выгоды, о которых я здесь не стану распространяться. Но я обращаю внимание товарищей на то, что перебаллотировки вовсе не происходят в стороне от массы или над массой, как выборы во второй стадии; в перебаллотировках участвует тот же самый массовый избиратель, что и на общих выборах, – и этому простаку приходится преодолевать большое затруднение: семь дней тому назад он в результате жесточайшей партийной агитации отдал свой голос социалисту против либерала; сегодня, через неделю, он по призыву того же социалиста отдает свой голос либералу. И если его голова справляется с этим противоречием во время перебаллотировок, то я не понимаю, почему она должна прийти в затмение пред соответственной комбинацией на общих выборах. Можно делать догадки большей или меньшей вероятности – о том, понадобятся ли соглашения с кадетами на первой стадии выборов и в какой мере. Но принципиально отрицать самую допустимость таких соглашений, как уже сказано, нельзя. Вообще странно было бы думать, что в этой специальной сфере, где решающую роль играют вопросы избирательной техники, у нас имеются какие-нибудь безусловные начала, которые могут при всех случаях определять наше поведение. Может ли такое техническое неудобство, бесспорно очень серьезное, как отсутствие перебаллотировок, устранить для нас ту политическую цель, которой мы достигаем путем соглашений? Разумеется, нет.
Повторяю: решающее значение для нашей политической самостоятельности имеют не столько избирательные манипуляции сами по себе, сколько их мотивы, дающие тон всей нашей агитации.
Если нами руководит голая абстракция, – вроде того, что, поддерживая кадетов, мы «изолируем реакцию», – тогда соглашение с кадетами превратит нас в большей или меньшей мере в адвокатов кадетской партии пред лицом населения. На первое место нам придется выдвинуть те соображения, что на нас, социал-демократах, свет клином не сошелся, что, кроме нас, существуют еще другие партии, борющиеся за свободу, что кадеты представляют собою прогрессивную партию, что они борются за «землю и волю» и пр. и пр.
Если же мы стоим на той точке зрения, что для того, чтобы изолировать и раздавить реакцию, нужно, между прочим, разрушить в сознании прогрессивных слоев населения те политические предрассудки, которые кадеты стремятся закрепить; что эта цель лучше всего будет достигнута, если мы поможем кадетам стать в положение, которого они так домогаются и которое требует качеств, каких у них сейчас нет и в помине, – тогда мы останемся их беспощадными политическими обличителями как в том округе, где мы будем непосредственно соперничать с ними, так и в том, где мы будем за них голосовать.
Конечно, кадеты «прогрессивная» партия, конечно, г. Петрункевич несравненно «лучше» г. Пуришкевича[105] и даже г. Гучкова[106]; конечно, кадеты стоят за «землю и волю». Но мы, социал-демократы, должны предоставить самим кадетам доказывать все эти несомненные истины: они в этом достаточно заинтересованы, и у них для этого имеется огромный аппарат легальной прессы и необходимое количество ораторов, располагающих полным каталогом всех заслуг и достоинств кадетской партии. Мы же должны в эту либеральную агитацию вносить наш социал-демократический корректив. Конечно, скажем мы, г. Петрункевич лучше г. Пуришкевича («меньшее зло»), но суть дела в том, что тактика г. Петрункевича не способна избавить вас, граждане, от государственной диктатуры г. Пуришкевича. Конечно, кадеты стоят за «землю и волю», но их политическая гегемония не даст народу ни земли, ни воли. Но вы, граждане избиратели или выборщики, не разделяете в лице вашего большинства этого нашего взгляда. Вы требуете, чтобы мы помогли вам своими голосами подавить черносотенцев и послать в Думу г. Петрункевича. Мы сделаем это. Ибо если в Думу попадет Пуришкевич, он поможет вам сохранить вашу веру в Петрункевича{31}, и в вашем сознании вся ответственность падет на нас. Этого мы не хотим. Мы идем вам навстречу. Мы голосуем за вашего кандидата, чтобы показать вам, что вы стоите на ложном пути. Так скажем мы на избирательных собраниях. И если наши мотивы будут пока безразличны для тех граждан, которые все равно думали голосовать за кадета, то они будут далеко не безразличны для социал-демократически настроенных избирателей в тех случаях, когда мы их побуждаем голосовать за депутата, которого они политически переросли.
V
Выше сказано, что при первой постановке вопроса мы выступаем адвокатами кадетов, при второй – обличителями. Конечно, я вовсе не хочу этим сказать, будто товарищ Плеханов рекомендует нам отождествляться с кадетами или хотя бы только умалчивать обо всех их грехах. Ведь и адвокат не отождествляется с подсудимым и не отрицает его преступления; он защищает его, он выдвигает на свет, главным образом, его добрые стороны и те обстоятельства, которые смягчают вину.
В сжатой формуле агитация первого типа может быть выражена так: «хотя у кандидата NN, как у кадета, есть тысяча недостатков, но за всем тем у него имеются такие достоинства, как у оппозиционного политика, как у борца за „землю и волю“, которые дают ему право представительствовать народ в Государственной Думе».
Вторая формула будет такова: «хотя у кандидата NN, как у кадета, есть тысяча достоинств, но за всем тем он совершенно непригоден для борьбы за „землю и волю“, – и чтобы доказать вам это, мы вам поможем послать его в Государственную Думу».
В этом различии – целый мир политической агитации.
Могут возразить, что «пригодность» и «непригодность» кадетов для разрешения революционных задач не нужно понимать абсолютно. Сегодня непригодные, они завтра сделаются пригодными под влиянием обстоятельств, которым они сами бессознательно идут навстречу. Совершенно верно. Но я думаю, что именно агитация второго типа будет в наивысшей мере содействовать революционному перерождению жизнеспособных элементов конституционно-демократической партии.
Я здесь считаю уместным повторить то, на чем никогда не устану настаивать: не нужно отождествлять марксистское исследование с социал-демократической агитацией. Между ними не может быть противоречия, но они и не тождественны. Они относятся друг к другу, как наука к искусству, как теория к практике. Пусть объективный анализ социально-исторических отношений заставит нас, марксистов, даже прийти к выводу, что победа демократической нации означает диктатуру кадетов; но мы, социал-демократы, больше всего сделаем для ускорения этого процесса и для углубления социального содержания грядущей буржуазно-демократической диктатуры, если будем теперь беспощадно разоблачать полную непригодность кадетской партии для роли политического вождя революционной нации. Такова диалектика политики!
Поддерживая буржуазную демократию, толкать ее на путь революции!
«Речь» на это отвечает так: «поддерживать нас мы вам охотно разрешим; в угоду вашему доктринерству мы вам даже позволим называть нас буржуазной демократией; но толкаться – нет, уж это извините!»
В N от 15 ноября сказано буквально следующее:
«Вот это-то стремление социал-демократии („толкать всю буржуазную демократию на путь революции и делать из Думы в целом орудие революции“) должно встретить самый резкий и решительный отпор со стороны „буржуазной демократии“ и даже той ее части, которая стоит за соглашения… Необходимо раз навсегда установить, что толкать „буржуазную демократию“ и Думу куда бы то ни было социал-демократии не удастся. „Буржуазная демократия“ идет в Думу, чтобы законодательствовать…»{32}.
И потом опять: «Буржуазная демократия… за лозунгом социал-демократии не пойдет и толкать себя не позволит…»
Несмотря на всю комичность этого тона уездной барыни, которая для «соглашения» с пролетариатом едет третьим классом, но каждую минуту требует, чтоб ее, пожалуйста, не толкали, несмотря на всю проявленную здесь ребяческую наивность кадетской мысли, приведенные строки довольно поучительны и, так сказать, наводят на размышление.
Социал-демократия решила в известных случаях поддерживать на выборах кадетские кандидатуры. Орган кадетской партии, обращаясь к нам, говорит: Вы хотите бороться за Учредительное Собрание? Это утопия! Мы раз навсегда отказываемся от этого лозунга{33}. Вы хотите превратить Думу в орган революционной борьбы? – Не ждите нашей помощи: мы идем законодательствовать.
Газета г. Милюкова очень беспокоится, чтобы не вышло «недоразумения», очень волнуется и настаивает на том, чтобы социал-демократам дано было «понять» в самой ясной и категорической форме… Почти в каждом номере эта почтенная газета возвращается к колючему вопросу. С одной стороны – выгоды «соглашения», с другой стороны – перспектива неучтивого подталкивания. Но опять-таки: если отказаться от соглашения, разве социал-демократы откажутся от своих революционных намерений? «Но мы им дадим твердо и решительно понять!» ободряют кадеты друг друга. «Ах, захотят ли они понять?» тоскливым эхом откликается госпожа Кускова в «Товарище»[107].
Этот добрый бескорыстный «товарищ» двух партий – он разрывается на части, чтобы сервировать блок, как в лучших домах. Ведь, в сущности, вопрос совершенно прост, уверяет газета: кто за конституцию – те налево, в большой мешок блока; кто за ватерклозетную фирму Лидваля[108] – тот направо. Конечно, все сохраняют при этом свою полную самостоятельность – в большом мешке блока. Правда, социал-демократы грозят толкаться, но, в сущности, если рассмотреть этот вопрос в свете реалистической политики, то ведь для того социал-демократы и приглашаются в мешок, чтоб им не очень удобно было толкаться. Они и сами, наконец, вынуждены будут понять…
– «Ах, захотят ли, захотят ли они это понять?» тоскует на ветке госпожа Кускова.
Мы хотим дать этим господам посильные разъяснения явно-успокоительного характера.
Социал-демократия была бы крайне наивной, если б основывала свои расчеты на заявлениях других партий. Мы очень хорошо помним старые слова нашего старого Маркса, что о существе каждой партии так же мало можно судить по ее декларациям, как о характере человека по его мнению о самом себе. Декларации кадетов могут быть вполне тверды и категоричны и вполне искренни, – они все равно не годятся, как объективный материал, способный определить нашу тактику. В октябре 1905 г. кадеты требовали Учредительного Собрания и клялись бросить все свое влияние на чашу весов революции. Перед выборами они обязались не заниматься «органической» работой. Вступив в Думу, они решили только «законодательствовать», оставаясь на строго конституционной почве. После разгона Думы они выпустили выборгское воззвание, которое, разумеется, никакая софистика не уложит в параграфы «конституционного» права. Потом они отказались от выборгского воззвания, не отказываясь от оного. Теперь они отказываются от Учредительного Собрания и от «чаши весов» революции. Они опять идут законодательствовать.
Нет спора, все эти маневры и манипуляции, которые на наш вульгарный взгляд представляются блужданием политических пошехонцев меж трех сосен, на самом деле продиктованы высшими государственными соображениями. Но так как нам этих высших соображений, по совершенно справедливым предчувствиям г-жи Кусковой, никогда не понять, то мы не можем с ними сообразовать свою политику. Но возможны ли в таких случаях соглашения? Конечно: ибо мы считаемся только с той революционной ситуацией, которую создаст Государственная Дума, а вовсе не с субъективными планами кадетских депутатов. Это никоим образом не означает, что сегодняшние планы кадетов для нас безразличны. Если мнение человека о себе не определяет его характера, то оно все же входит важным составным элементом в его характер. То же самое и с декларациями партий. Нам всегда важно противопоставить то, что кадеты говорят, тому, что они делают: и в том случае, когда они обещают больше, чем дают, и тогда, когда они вынуждены пойти дальше, чем хотели. Мы потребуем от кадетов во время выборов, чтоб они ясно и точно определили, что и как они думают делать. Мы закрепим их ответы в памяти избирателей. И мы сумеем в нужный час вскрыть все противоречия и сделать все выводы.
– Да, но возможны ли для нас избирательные соглашения с кадетами, раз они заранее заявляют пером своих публицистов, что цель этих соглашений – двинуть демократическую буржуазию на путь революционной борьбы – встретит решительный отпор с их стороны?
Не только возможны, но и обязательны. Разве мы думаем воздействовать на политику демократии через политическое сознание ее публицистов? Разве мы ставим своей задачей – переубедить кадетских депутатов в Думе и силою логики, красноречия, такта и тысячи других достоинств перетянуть их в лагерь революции?
Такие надежды и планы были бы достойны осмеяния! Мы применяли бы к кадетам лишь ту жалкую тактику, посредством которой они сами столько раз пытались завлечь правительство на путь либерализма.
Нет, мы строим нашу тактику на объективной логике событий. Наивное, но мощное в стихийности и массовидности своей пролетарское восстание 9 января, а не наши убеждения, заставило буржуазную демократию принять лозунг Учредительного Собрания и всеобщего избирательного права. Октябрьская стачка заставила слагавшуюся конституционно-демократическую партию присягнуть на верность революции. Разгон Думы, а не наши убеждения заставил кадетов написать и подписать выборгское воззвание.
– Но ведь они отказались от всего этого! Но ведь они пронесли через все испытания в полной неприкосновенности весь багаж своего политического филистерства. Где же основания надеяться, что новый крах излечит их?
Кого их: господ Милюкова, Петрункевича, Родичева[109]?.. Но разве наша работа состоит в перевоспитании либеральных политиков? Нет, она заключается в том, чтобы, опираясь на завоевания, сделанные кадетами в отсталых слоях мещанства, двинуть мобилизованные кадетами общественные группы вперед и оттиснуть либеральных вождей на другие, более отсталые и косные слои. Г-да Милюковы и Петрункевичи не меняются, – но разве они сохраняют в неизменном составе свою армию? Разве выборгское воззвание[110] – и принятие его и отречение от него – не сыграло роли антикадетской прививки, сделанной самими кадетами? Какое же значение может для нас иметь тот факт, что кадеты грозят бороться против превращения Думы в орудие революции? Для нас достаточно того, что за кадетами идут еще такие социальные элементы, на которые революция имеет все права. Мы должны ей помочь реализовать эти права. В тех местах, где кадетам будут противостоять реакционные кандидаты, и где решение вопроса будет зависеть от нас, мы бросим наши бюллетени в кадетские урны и со спокойной социалистической совестью пошлем кадетов навстречу их судьбе.