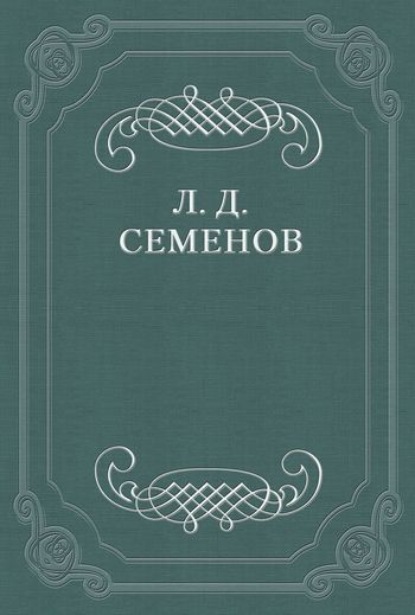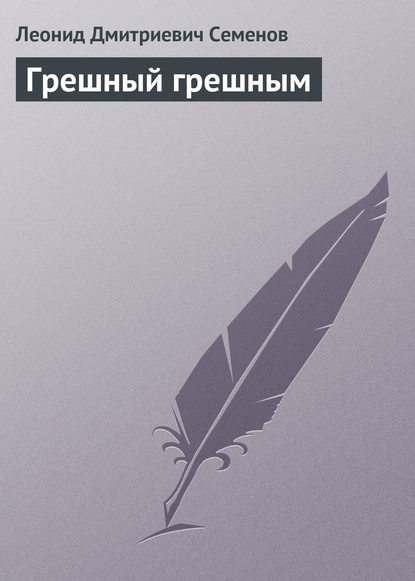
Полная версия:
Леонид Дмитриевич Семенов Грешный грешным
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Леонид Дмитриевич Семенов
Грешный грешным
Бывают дни у человека, когда какие-то невидимые силы особенно сильно возвращают дух человека, заставляют оглянуться назад, на себя, на все пройденное им прошлое, чтобы еще вернее оценить все, что с ним было и глубже, чем это было тогда, когда это было им переживаемо и тем тверже стать на найденном пути. Такое время пришло ко мне в этом году, когда после нескольких лет стремительных перемен, когда некогда даже было озираться назад, я был оставлен одним с собой далеко от друзей и оторванный от видимого труда, которым за эти годы научился наполнять свое время. В это время я по немощи своей единственное утешение себе находил в том, что уединился от всей тяжелой обстановки, какая была кругом, и свирепых мыслей, пробуждаемых ею, – в свое прошлое и в встречи, которые были в нем. Так и составились там понемногу эти записки.
Часть первая
<Сестра Маша>
1
Говорят люди, и это есть страшные слова, что нужно человеку испытать все: и добро, и зло, что без зла не будет в нем полноты жизни. Но зло не есть жизнь, а есть отсутствие жизни, и нет конца богатству жизни для тех, кто ищет только добра, кто от юности ищет только Его, боясь потерять и минуты на что-нибудь другое. И нет конца горю и раскаянию того, кто, увидев добро, начинает познавать, как безвозвратно и как многое он потерял тем, что не всегда стремился к Нему, тратил время на зло, на пустое… Иногда даже кажется мне, что есть грехи непростимые… Может быть, даже это и есть единственная вечная мука на всем Свете мироздания, что в памяти нашей некоторые грехи наши никогда не изгладятся, никогда не превратятся в Свет. Пусть Бог, пусть все люди простят мне их, я не прощу их себе. И может ли Он Всеблагий и Всемогущий сделать так, чтобы мы их простили себе, не нарушив нашей свободы, которая есть драгоценный дар Его нам.
До 1905 года я жил жизнью, которою живут все образованные люди моего возраста. Ничем особенным не выделялся из них и едва ли кто из окружавших меня подозревал всю грешную язву души моей, ту язву, которую они и сами в себе часто не видят. Был для всех обыкновенным, ни плохим, ни хорошим человеком. Да и было во мне рядом с тьмой, о которой упомянул, и много хорошего, чего не скрою, – как оно есть и во всех людях. Но это-то и делало тьму еще более темной. Пожалуй, самым постоянным и положительным во мне Светом в эти времена было сознание, которое вылилось тогда однажды в стихотворение, написанное в 1903 г. «Свеча» озаглавил я его; в нем пропускаю строки, присочиненные тогда ради рифмы.
Я пустынею робко бредуИ несу ей свечу восковую.………………………Кем? Зачем мне она вручена?Я не знаю… Робею…Но не мною свеча зажжена,И свечи загасить я не смею.Это стихотворение я любил тогда, но и много позднее часто служило оно мне удовлетворительным ответом на все самые тяжелые вопросы жизни и предупреждало от мыслей о самоубийстве. Но сознание, которое вылилось в нем, сознание зависимости моей жизни от Кого-то Неведомого, Который дал мне жизнь и Которому я должен поэтому дать отчет в ней, было все же для меня неясно. Кто Он? Этого я не знал. Бог ли он, вневременное вечное начало над нами, – Единственный и Всемогущий Судья и Творец наш, – или только история человечества, слепые и таинственные силы, создавшие меня в потоке времени и вынесшие на их поверхность; чтобы здесь явил я накопленное ими содержание свое другим. Скорее склонялся к последнему, т. е. верил, как верят и все образованные люди, что знания мои, таланты, способности и умственные силы, развитые воспитанием и положением моим в обществе, и есть тот Свет-Свеча, которую принес я в пустыню жизни, чтобы ею послужить людям в их движении вперед к какой-то неведомой нам цели, в движении, которое и зовется на их языке прогрессом. Но сомнения, есть ли моя личность и ее богатство еще Свет, а не тьма, – этого сомнения еще не было во мне. Только мучили вопросы – как и к чему лучше всего приложить свои силы.
Был же я к этому времени студентом четвертого курса Историко-филологического факультета, готовился уже к государственным экзаменам и открывались мне за ними разные дороги. Мог я стать ученым, оставленным при Университете для дальнейшего образования по избранным мною наукам, ибо был любим своим профессором-учителем[1] и занимался в Университете хорошо; мог идти и на какую-нибудь государственную или общественную службу; но всегда больше манило меня к себе, пожалуй, писательство, в котором я уже выступал и довольно удачно, т. е. заслужил сразу признание в самых передовых в то время литературных кружках… Но ничто не удовлетворяло. Я был на перепутьи, что и сам чувствовал, т. е. чувствовал, что должен как-то проявить себя и, может быть, послужить другим людям, даже мучился иногда укором, что ничего еще не сделано мною в этом отношении, но и не знал, как и что мне делать. Не было ничего твердого, устойчивого во мне; вся жизнь представлялась часто быстрой, утекающей куда-то рекой, за которой мне трудно поспеть, так что и страх даже был, не останусь ли я и вовсе со всеми своими честолюбивыми и самоуверенными замыслами где-нибудь на мели вне ее…
Эти вопросы – для чего я живу и что должен делать – пробудились во мне рано, и тогда же пробудились под ними и более глубокие вопросы, чем просто те: как и к чему приложить свои силы; только не умел я в себе отделить важное от неважного и часто неважное, под влиянием других людей, принимал за важное. Впервые же остро и чисто поднялись они во мне в возрасте 14–16 лет. Тогда всей силой души своей я почувствовал вдруг, что все то, к чему меня готовят окружающие меня люди, мои родители и наставники, чему учат и чем сами живут, не есть еще то, к чему призван человек, и вообще не то, что есть правда. И первым решением воли, не пожелавшей расходиться с велениями внутреннего ощущения правды и лжи, было: оставить гимназию, ибо ее-то и почувствовал я прежде всего ложью, отчасти потому, что кругом себя и в семье часто слышал разговор взрослых, осуждавших классицизм и казенщину гимназий и удивлявших меня тем, что, несмотря на свое осуждение, держат нас в этом зле. Что делать взамен учения в гимназии и вообще взамен того, что все кругом делают, я хорошенько не знал, но для себя находил выход в том, что вообразил себе свое призвание в музыке и вообще в искусстве, с которыми я связал свои первые, только что пробудившиеся мечты о служении всему человечеству, мечты чистые вначале, но скоро отравленные чтением жизнеописаний великих людей, вливших в душу яд честолюбия и славолюбия. Я заявил отцу о своем желании оставить гимназию. Отец, конечно, не согласился, начал меня уговаривать, я – спорить, и около года продолжалась у меня упорная борьба с ним и с гимназическим начальством за то, чтобы отстоять свою свободу от них. Борьба кончилась ничем, но была так остра, что я заболел и был одно время даже при смерти, отчасти оттого, что и сам желал этого, когда, отчаявшись в своих силах и возможности для себя быть верным принятым мною решениям, перестал видеть смысл в своей жизни. Но в конце концов смирился и заключил с родителями нечто вроде договора, что кончу гимназию, а взамен того получил от них свободу заниматься музыкой и чем хочу.
Но в этой борьбе, в этом первом более или менее самостоятельном столкновении моем с другими людьми на почве сознания своей одинокости и того, что я не нашел себе никакой поддержки в других людях, пробуждалась во мне еще и другая и более глубокая неудовлетворенность жизнью и самим собою. Себя запертым увидел я в своем замке. Хочу из него рвануться к другим людям и не могу. Нет путей у нас друг ко другу и нет ключей, чтобы выйти на волю, на простор и там слиться всем вместе в любви. Тогда слова в 9-й симфонии Бетховена: «падите ниц вы, миллионы» и шиллеровский романтизм, вынесенный из немецкой гимназии, наиболее отвечали моим переживаниям, вдохновляя на борьбу с окружающими. А борьба усложнялась вопросами о долге, о любви, о том, что такое любовь, чего должна желать она людям, как могут быть две разных любви. Ибо видел любовь родителей ко мне, которая желала мне и другим людям одного, я видел свою любовь, которая желала всем другого. К ним начала присоединяться и любовь к другим людям, сначала к младшим меня в семье, к братьям и сестрам, которые, подрастая, вступали или должны были вступить в ту же полосу противоречий своих стремлений со стремлениями старших. А в этой любви был уже какой-то жуткий страх. Впервые приходили мысли о конечности всего земного, когда видел других людей перед собой и любимых и начинал сознавать, что все живут – вот живут на земле, куда-то спешат, чего-то ждут, а потом вдруг куда-то обрываются и исчезают все… приходит старость, смерть. Куда же исчезает все. И не остаемся ли мы обманутыми жизнью, которая в молодости так много и так заманчиво сулит нам прекрасное на земле, а потом все отнимает, не исполнив, может быть, и половины того, что сулила. Уже содрогалось сердце перед призрачностью всего видимого.
Но неуменье, да и невозможность, для взрослых ответить мне на все подымавшиеся мои вопросы будили во мне, с одной стороны, сознание, что и старшие меня живут слепо, а с другой стороны, может быть, даже и некоторое высокомерие, что в свою очередь, рядом с кажущимся утверждением моего особого от других призвания к жизни – ибо так понимались окружающими меня мои стремления к музыке – еще более увеличивало мою отчужденность от всех и холодную на вид замкнутость в себе. Любовь тлела под этим, но не умея себя, как это часто и бывает в людях, прямо и просто проявить им, искала выхода в нелепой и фантастической мечтательности, какой и явилось для меня искусство. Так создавался безысходный круг противоречий, юношеская драма, может быть, и многих таких же, как я, юношей в те времена, да и ныне, которая тогда так и не нашла себе никакого разрешения. Но вопросы, поднятые ею, раскрыли предо мною язвы жизни, которою жил я и к которой готовился, а язвы, оставаясь долго незамеченными, были болезненны теперь уже при всяком и малейшем прикосновении.
Наконец увлечение музыкой мало-помалу отошло, и причиной тому были опять те же более глубокие запросы и алкания души и сердца, которых музыка очевидно не могла удовлетворить. Но только много позднее решился я это окончательно осознать, т. е. признать, что в музыке и вообще в искусстве есть препятствие на пути человека к Богу. Есть соблазн в них так называемыми эстетическими эмоциями (художественными впечатлениями или просто внешними щекотаниями чувств) заменить те внутренние, нравственные удовлетворения, которые ищет дух, когда чувствует себя одиноким и оторванным от других людей, когда жаждет Бога. Блаженны минуты юношей и девушек, кто знает их, когда просыпается в них дух и алчет Вечности – своей родимой Матери. И я такие минуты знал в это время, то иногда при взгляде на звездное небо по ночам, когда чувствовал в нем дыхание чего-то близкого, бессмертного, тихого, и умилялся перед ним, – то иногда в редкие за всю жизнь запомнившиеся минуты откровенных почти мгновенных разговоров с теми или другими немногими близкими людьми, с которыми рос, с братьями или сестрами в детской или товарищами, когда истинная любовь и трепет и жажда чистой жизни охватывали сердца… Еще был в детстве более раннем, чем это, год чистых и жарких молитв к Творцу веков, когда мальчиком на коленях, на кроватке и без заученных слов, но со слезами просил я, чтобы Он помог мне перестать шалить и не огорчать родителей. Мне было тогда лет 10 или 11 – и тогда уже испытал я силу услышанной молитвы, но потом это забылось. Думаю, ни один человек не лишен в детстве и в юности таких огней в ночи, и страшно забвение, которое приходит после и отводит нас от них. Но музыка, конечно, не могла заменить того, чего алкало в эти минуты сердце, она могла только это подменить. И живо помню горькие минуты разочарования, в котором долго сам себе не хотел признаться, но в те минуты, когда еще будучи гимназистом и вернувшись домой из какого-нибудь концерта, где готовился с торжеством и благоговением прослушать симфонию Бетховена или Чайковского, опять и опять находил, что ничего там, в сущности, особенного и не произошло, но все <как> было, так по-старому и осталось. Шли мы туда, собирались, как камешки холодные, в кучку; побыли вместе и опять рассыпались каждый в свой угол, оставшись такими же, как и были. Никакого таинства чуда, которого ждал, никакого слияния всех со всеми, про которое силился себя уверить, что оно есть в искусстве, ничего такого там не было. Мало-помалу это разочарование – как <ни> не хотелось мне самому в этом признаться, становилось так мучительно, что я вовсе уже переставал играть на рояле при людях, которых не чувствовал зараженными своим увлечением. Достаточно было одного рассеянного, неподходящего слова какого-нибудь или входа в комнату постороннего к музыке, напр. горничной или служащих в доме, а в деревне в особенности присутствия поблизости простых людей – крестьян, которые могли бы мою музыку услышать и осудить, – чтобы все очарование музыкой исчезало как дым. И была честность, которая не позволяла эти разочарования приписывать всегда отсталости и грубости других людей, но и видела уже, что это дело не в них, а в самой музыке и в самом искусстве, которое уже по одному тому, что ограничено телесностью, не может быть путем слияния всех в Единое, и не есть еще то, что мне и всем нужно. В концертах иногда мучился жестокой мыслью, что какой-нибудь капельдинер, служащий при зале, или литаврщик и барабанщик, играющий в оркестре за деньги, здесь присутствует только по нужде и никогда не станут причастными к тому, в чем мы хотим видеть наше священнодействие и торжество. Так мало-помалу всякое удовольствие от музыки отравлялось, пропадала охота ходить на концерты и самому заниматься ею… Но это пришло окончательно уже позднее, когда на смену музыке пришли и другие соблазны, а пришли они, когда поступил я уже в университет.
Здесь первый несколько аскетический пыл души понемногу распылился в шумной и бурной внешней жизни, которая обступила кругом. Сначала сходки в нем и мое участие в них, довольно бессознательное, но мятежное, на почве бунта личности против толпы, власть которой впервые увидела здесь, над собой и над другими, и на почве весьма не проверенных чувств моих, вынесенных из дворянской семьи, заняли почти целых два года моей жизни, оба первые года, которые провел на естественном факультете. Потом к прежним соблазнам (художественность, честолюбие, самолюбие и другие) прибавились новые, и из них самый острый и страшный для юного возраста: соблазн половой похоти. До этого я был довольно строг к этим чувствам в себе, или, вернее сказать, робок и стыдлив в них, хотя, конечно, и во мне пробудились они естественно в том возрасте, в котором это им и следует. Но теперь, окруженный и книжками, и людьми, свободно посвящавшими таким вопросам много внимания, и я сам стал искать в себе развития этих чувств, боясь отстать от других, и боясь почему-то именно в этом «не быть, как все». Сначала это было именно так, а потом и действительно возбужденное и воспаленное воображение сосредоточило их на одной девушке, с которой я в это время встретился. И начались самые позорные и гадкие годы моей жизни. Теперь я думаю об этом так: нет, конечно, ничего удивительного в том, что эти чувства были во мне, и в них самих нет еще греха; и нет ничего удивительного в том, что Бог в сердца людей, почувствовавших друг к другу плотское влечение, в сердца мужчины и женщины и еще больше юноши и девушки, влагает любовь, нежность, уважение, внимание их друг на друга, сострадание, признательность, чтобы, соединившись, они жили друг с другом не только как животные, но и как существа, одаренные разумом и душой, и нет ничего удивительного, что любовь к девушке, рядом с похотью к ней и даже прежде нее, как это часто бывает в людях, стала волновать меня. Она могла несколько отвечать и моей тоске в одиночестве и потребности хоть кого-нибудь любить, выйти из себя для других людей. А девушка вполне доверялась мне, и мог я ей быть полезен, мог быть ей даже опорой в ее стремлениях к широкой и самостоятельной жизни, о которой она мечтала. Во всем этом нет ничего странного. Но как могло случиться, что выхода из своего такого положения я стал искать не в любви к ней, а именно в похоти моей и самый миг моей низкой страсти в мечтах представлял себе, как она отдаст себя мне, стал считать за цель и смысл всей моей жизни; и как могло быть это, когда при этом хорошо сознавал я, что моя похоть идет в разрез любви, ибо эта похоть моя разделялась девушкой и мучила ее и пугала, роняла меня перед ней. И как могло случиться, что мучая так себя и девушку, я стал впутывать в свое мучение еще и других, другую тоже девушку, полюбившую меня, или вернее развращаемую мною и моими стихами, и наконец, превращая все это в игру, т. е. любуясь этим и воспевая блудную страсть свою в стихах, показывать ее другим людям и даже печатать их, чтобы получить от них похвалу и дань удивления. Этого уже я не могу себе простить. Конечно, эта похоть и то, что я делал, и есть содержание почти всей мировой литературы, всех бесчисленных ее романов, стихов и драм, которых был так начитан я тогда. Но перед Богом все-таки нет и не может быть этому прощения. И когда вспоминаю теперь об этом, то могу себе это объяснить только той полнейшей праздностью внешней и внутренней и неверием в Бога, в которых жил тогда. Не было никакого дела у меня, которому бы был я предан, а поэтому и все, что только возникало во мне, казалось мне и важным, и великим. Ты только цветок на поверхности вод, а поэтому и давай всему волю в себе, хотя бы цвет твой и был порочен. К такой мысли и к такому взгляду я приходил и тогда иногда. А это-то и есть тот грех, о котором сказал в начале своего писания, что не могу себе его простить. Не было бы еще этого греха с моей стороны, если бы я не знал, что то, что я делаю, – грех. Но с самого начала, как я себя помню, я был человеком раздвоенным, т. е. человек, который уже ни в чем не мог окончательно забыться и потерять те вечно недоуменные вопросы обо всем, что ни видит и что ни возникает в нем, – для чего это и какой это имеет конечный смысл. Мы не знаем, отчего в одних людях эта высшая требовательность сознания, идущая от всего единого, конечного смысла, – есть, а в других ее нет, это неведомая для нас воля Создателя, управляющая судьбами человеков, но для тех, в которых эта требовательность уже возникла и которым она нигде не дает покоя, для тех уже ничего не остается, как пойти за ней с доверием и решимостью удовлетворить ее. Я же знал, что увлечение мое похотью моей и мученье мое ею девушки бессмысленно и нехорошо, как знал это и раньше про свою музыку, и теперь про стихи, но упорствовал в этом, упорствовал почти сознательно, потому что не хотел взглянуть до конца бесстрашно в себя и продумать до конца, что же наконец осмысленно и хорошо. Жалко было расстаться с теми минутными наслаждениями, которые дарила бессмысленность, и не верилось в то, что есть вообще конечный смысл и высшая ценность всего, не верил в Бога. Да. Был как листок, оторванный от родимого дерева и гонимый ветрами то туда, то сюда, листок, для которого нет ни низа, ни верха. А это и есть игра. Игра – для человека, знающего логику и ощущающего в себе законы ее, – не мыслить согласно им, а мыслить нарочно бессмысленно и нелогично; но такая же игра, а не жизнь – и поступки человека, который внутри себя читает таинственные, может быть, и не совсем еще ясные ему, но повелительные законы о том, что хорошо и что худо, что имеет ценность перед Высшим Смыслом жизни и что нет, но живет не так, как эти законы велят, а против них. Ты – листок на дереве жизни, но не на том, который видишь кругом, а ты в тех мерках добра и зла, которые заложены внутри тебя, они – листочек на неведомо прекрасном и невидимом для очей плоти дереве жизни; их волю исполни, как исполняет листочек волю дерева, на котором вырос, не задумываясь, для чего это и как это понравится другим, исполняет потому, что в этом жизнь его, и потому, что знает, что как только оторвется он от нее, то будет уж сухим и мертвым, – и вот эту-то жизнь человеков я и топтал в себе.
Неизъяснимо ощущение осмысленности и вечности того, что делаем, когда исполняем волю Добра, но так же неизъяснимы нам и законы логики, к почему они именно таковы, как они есть, а не другие, но мы все же исполняем их, когда хотим мыслить, потому что не исполнять их для мысли – значит не жить мыслью, не мыслить вовсе; почему же отрываемся мы от законов того, что добро и зло, что правда и неправда, что искренность и неискренность законов, так же таинственно вложенных в нас, как законы логики в разум, и законов, в которых одних только и есть жизнь духа и без которых дух так же мертв, как мертва нелогичная мысль. Вот в этом-то мертвом состоянии я и находился тогда, думая не о том, что хорошо во мне самом, перед судом Вечно-зрящего, хотя и неизвестного мне судии и Его законов во мне, а что хорошо перед людьми, чтобы не отстать в их глазах от других, понравиться им и даже опередить всех и отличиться в безумной игре и гонке внешней жизни.
Но то, что мне самому представлялось красивым в стихах и в разнузданном звонкими словами воображении, то в обыденности тогда являлось вовсе в другом свете. Да и не мог же я в самом деле хоть иногда не видеть, что ничего, в сущности, я особенного со всеми своими страстями и запутанностями в них не представляю и что все это было уже миллионы раз пережито до меня другими, и так же и даже еще гораздо лучше меня воспето ими и в стихах и в драмах. И скучно становилось тогда от всего. Но еще страшнее были минуты, иногда посещавшие меня, когда, оставшись один и немного очнувшись от угара, которым опьянял себя среди людей, вдруг поистине ничего не находил в себе: кто я и что я – и не находил уже в себе никаких нравственных устоев, на которые бы мог опереться, чтобы удержать себя от любого приходившего в голову поступка….. Ужели уж так пал я, ужасался я даже и тогда иногда. Убийство воспевалось в то время в некоторых декадентских течениях, к которым я был причастен, и врывалось уже в жизнь все учащавшимися террористическими актами. Почему и не убийство. Убить девушку, упорно не уступавшую моим желаниям и уже заподозренную мною в чувствах к другим, девушку, которую любил, и это казалось красивым. Простите, братья, что это пишу, но пишу, чтобы показать всю глубину своего падения, и падения, близкого не мне одному. Бывали минуты, когда отсутствие смелости ко всему уже начинало казаться мне слабостью в полном смысле этого слова. А Ницше, страшно сказать, безумец Ницше был моим любимым философом. В действительности же, как я теперь понимаю мое тогдашнее состояние, строгий ангел-хранитель все же еще не вовсе покидал меня, как не покидал Он и никого из нас, хотя мы и не видим Его. Он и берег меня еще от окончательного падения. Бессилие победить Его и бессилие победить свои страсти – вот что было мое то безнадежно нерешительное состояние.
Но в 1905 году уж так больше продолжаться не могло. В этом году страх мой за себя, страх за то, чтоб не остаться мне мелким и холодным камешком пошлой обыденщины жизни, где и писанье стихов и какая-нибудь служба мне казались скучным и пустым переливанием из пустого в порожнее, и шли вразрез всем ницшеанским мечтам, чтобы быть сильными, смелыми победителями жизни. Страх этот как будто бы совпадал и с тем, что переживалось всеми в образованном обществе в это время. Раскаты грома войны достигали и Петербурга. Лучше уж гроза, лучше уж что-нибудь, чем это мертвое спокойствие пошлости. Может быть, и многие сердца сжимались в это время такой жаждой грозы. Так, мысль броситься в революцию родилась у меня на улицах Петербурга 9 января 1905 года, когда, влекомый больше всего, конечно, любопытством, я бродил среди растерянных рабочих и видел кровь их, слышал возглас мести, даже и сам чуть не был убит у Полицейского моста на Невском.
Теперь чувства вины моей перед этим народом, чувства, которые никогда не умирали во мне совсем, а иногда даже и мучительно грызли сердце, как это было при моем увлечении музыкой, – стали казаться мне выходом из моего положения. Незадолго до этого, летом 1904 года в деревне, в усадьбе моего деда, я помогал ему в раздаче пособий женам запасных солдат, призванных на войну. Видел горе их и нужду и слезы. Целый день толкался среди них, записывая сведения о них и слушая их рассказы, и это дело, хотя и могло отвечать самым лучшим стремлениям во мне, более чем остальное, что я в это время делал, оставило во мне грустный осадок сознания бесполезности и ничтожности того, что образованные люди такими путями хотят сделать для народа, – и незаметно для меня вместе со всем тем, что и всеми переживалось и переоценивалось кругом в горьких испытаниях войны, послужило началом переворота во взглядах на значение правительства и отношение господствующих классов к низшим. Теперь же люди, которые отдают себя народу в борьбе с высшими классами и с правительством, все эти студенты, социалисты, революционеры и другие, которых презирал я до сих пор с высоты своей начитанности Кантом и другими философами и с которыми слепо боролся в Университете, когда выступал в нем против студенческого движения, они-то и стали казаться мне знающими тайну жизни и вместе с тем – теми сильными и смелыми людьми, которым принадлежит будущее в жизни. Не у них ли и я должен смиренно учиться жить. Эта мысль стала понемногу все чаще и чаще тревожить сознание, и уже с завистью начинал я смотреть на них. В том, что к этим первым, простым и чистым чувствам вины моей перед трудящимся людом сразу же примешались и мысли как бы о себе, мечты посредством отдачи себя этим чувствам разбить тоскливые стены своей скучной, буржуазной, как это тогда называлось, жизни, в этом я еще не вижу ничего худого. Потому что сама по себе тоска эта среди пошлости, она – порыв бессмертного духа к Бессмертному, недовольство его узкими и тесными рамками, в которые затерт он здесь. Но так как веры-то в дух и в Вечное у меня как раз и не было, – то и мог мой порыв превратиться только в новую игру, в попытку хоть чем-нибудь поразнообразить свое скучное и бессмысленное топтание на одном месте, и не больше… Такой бы игрой, конечно, и оказалось мое участие в революции, игрой последними, еще оставшимися во мне нетронутыми, чистыми и свежими чувствами. Слишком уж испорчен был я своим неверием в Бога. «Человеком с зеркалом» был я, как я и назвал себя тогда однажды сам, в одном написанном мною рассказе[2], – человеком, которого всюду преследовало его зеркало. В нем он видит все, что делает, и всем, что делает, любуется, хотя делает пакость, но ради этого самолюбования, ради игры и предпринимает все, что делает, ибо ничего, кроме себя, и себя такого, каким хочет казаться другим людям, не знает и не знает выхода из своего ограниченного этими зеркалами замка…