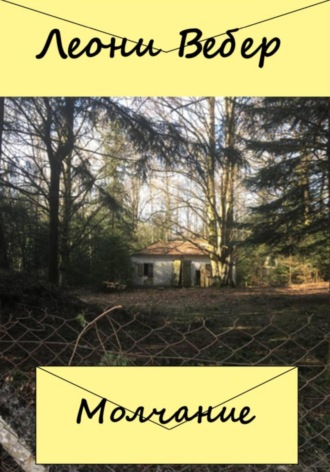
Леони Вебер
Молчание
8
Я снова пришла сюда. Хотела опять испытать это ощущение, попытаться понять, посмотреть на все глазами Хельмута и Урсулы.
Наш и соседние городки известны именно тем, что на горе рядом с ними стоит концлагерь. Он, конечно, не такой большой, как тот же Бухенвальд, но все равно его знают многие.
О том, что на горе концлагерь, свидетельствует памятник. Большой и белый, он возвышается практически рядом с вершиной. Его видно издалека, но конкретно с этой точки рядом со статуей концлагерь спрятан за другой горой. Так что не знаю, почему Урсула и Хельмут выбрали именно это место, чтобы смотреть на памятник и вспоминать грехи. Наверное, потому что здесь никогда нет людей. Можно думать в одиночестве и тишине.
Я долго стояла и смотрела сквозь горы, пытаясь почувствовать что-то, но ушла домой ни с чем.
Теперь, когда история Хельмута и Урсулы стала мне практически полностью известна, я не знала, что делать дальше. Собственно, все что можно было, я уже сделала. Но что же случилось в конце концов с хозяевами дома?
Письмо с фотографиями было написано в октябре 1994. Значит, оно и есть последнее. Что было дальше не ясно. Есть еще одна странность. Это письмо было готово к отправке. В отличие от всех остальных, которые Урсула и Хельмут просто подписывали, но боялись отослать, это было и запечатано, и по содержанию понятно, что старики таки решились. Но почему они не отправили? Неужели не успели и умерли?
Я зашла в тупик. Но мне не хотелось так просто прощаться с этой историей. Она стала мне какой-то родной. Каждый вечер перед сном я перечитывала по одному письму, и словно находила те слова, которые не могла сказать, которыми не могла выразить свои мысли.
Через неделю терзаний и усиленных размышлений, я решила сходить в соседний поселок, который находился как раз недалеко от дома в лесу. Там, в таверне работали друзья моего папы. Они прожили в поселке всю жизнь, так что, возможно, встречали Урсулу и Хельмута. Может быть, они даже знают, что произошло.
Я написала папе письмо и ушла. До поселка пешком сорок минут, но время пролетело незаметно, потому что все мои мысли были заняты мечтами о том, как папины друзья скажут то, что я так жажду услышать.
Перед таверной я остановилась. Мне нужно минут пять, чтобы собраться с духом и войти в это шумное место, а потом еще и заговорить с людьми. Глубоко вдохнув, я открыла дверь.
Посетителей было немного, я выбрала удачное время и день. Но все равно растерялась. Стала на пороге и смотрела на барную стойку, надеясь, что хозяйка сама меня заметит.
К счастью, так и произошло. Жюли подбежала ко мне и по привычке протянула руки, чтобы обнять и поцеловать, но потом вспомнила, что я не из тех француженок, которые позволяют все это делать с собой. Так что мы ограничились вежливыми улыбками, точнее, она мне улыбнулась.
– Летиция! Давно я тебя здесь не видела, и Марселя тоже. Как у него дела?
– Э-э-э… Все хорошо, – ненавижу этот вопрос «как дела», что по отношению к себе, что по отношению к другим. Я же даже не разговариваю с папой, откуда мне знать, как у него дела.
– Ты зашла по делу или просто проходила мимо?
– По делу, – я с облегчением выдохнула. Хорошо, когда человек говорит кратко и лаконично, а не заваливает тебя бессмысленным диалогом. – Здесь недалеко в лесу есть дом. Заброшенный. Вы не знаете, кто в нем раньше жил?
– Милая, я понятия не имею ни о каких заброшенных домах в лесу. О чем ты говоришь?
– Ну, вон там, – я показала через окно направление, где должен стоять дом. – Там раньше жили Урсула и Хельмут Шульц, немцы. Вы их не знаете?
– Нет, дорогая. Я никогда не встречала тут немцев. И никакого дома тоже.
– Но это могло быть давно. Постарайтесь вспомнить, – не останавливалась я.
– Летиция, я ничего не припоминаю, а, поверь, память у меня хорошая. Ты что-то расследуешь?
Точнее и не скажешь.
– Да. Можно вас попросить не рассказывать папе о том, что я приходила и расспрашивала вас?
– Конечно, не переживай.
– Спасибо, – я вышла из таверны.
Вообще, даже если бы папа узнал, ничего страшного бы не случилось. Он бы не выругал, не отобрал письма, не запретил бы всем этим заниматься. Просто эта история была для меня личной, и мне не хотелось делить ее с кем-то.
Значит, Жюли ничего не знает. Урсула и Хельмут жили действительно отшельниками, раз о них даже ближайшие соседи понятия не имеют.
На обратном пути я уже не была такой радостной. То, что я не смогла ничего выяснить, выбило из колеи. Я попыталась отвлечься от истории с домом, но в итоге сфокусировалась на себе и своих драмах, а это очень плохо.
Сначала я прокрутила в голове диалог с Жюли около двадцати раз, тщательно выискивая там какой-то промах. Я анализировала каждую свою фразу на предмет чего некорректного, глупого, странного, размышляла, не переборщила ли я с напористостью расспросов, не вела ли себя слишком подозрительно. Вдруг Жюли догадалась, что я необычная? Хотя нет, обычно обо мне не думают, что я такая. Меня сразу записывают в ненормальные. Раньше при Жюли я молчала, уставившись в пол, и это уже меня раздражало, потому что обычные люди себя так не ведут. А теперь пришлось с ней поговорить, и это еще хуже, ведь именно в общении я выдаю себя.
Я поняла, что зациклилась, и с усилием прервала этот круговорот мыслей. Но им на смену пришли другие, совсем уже грустные.
Я вспомнила, как впервые узнала, что со мной не так. Мне было лет одиннадцать, и я жаловалась маме, что у меня нет друзей, потому что от меня все разбегаются как от огня и смеются, обзывают странной. Мама села напротив, взяла меня за руки (я тут же их отдернула), и рассказала, что я была необычной с детства, и им пришлось повести меня к врачу, который сказал, что мой мозг работает не так, как у других людей. Это называется синдром Аспергера. Мама сказала, чтобы я не волновалась, это всего лишь легкая форма аутизма, и я смогу жить счастливо, если буду стараться. Я спросила, лечится ли это, а она сказала, что нет, это врожденное и навсегда. Я расплакалась, потому что поняла, что у меня никогда в жизни не будет друзей. А мама утешала меня, говорила, что синдром Аспергера не определяет меня и мою жизнь.
Она ошиблась. Определяет.
Я помню, как случайно услышала их с папой ссору. Он кричал маме, что она должна перестать воспринимать меня как обычного человека и требовать такого же поведения, потому что мой мозг другой, и я все равно не смогу поменяться, как бы она не старалась. А мама кричала, что я смогу быть нормальной, она это знает.
Такая же ссора с такими же словами произошла у них год назад, тогда, когда наступил критический момент. И в конце, после маминой фразы о том, что я смогу, папа тихо сказал ей, что она должна принять меня, иначе ничего не выйдет. Мама ушла и долго плакала в своей комнате.
Через полгода они развелись.
Я знаю, что это я во всем виновата. Папа хороший, он молодец, старается все для меня делать, но мама в меня верила. Она верила, что я смогу быть обычной. Я ужасно ее подвела тогда, год назад. Она так ждала от меня того, что дают другие дети родителям: поддержки, теплых слов, эмоциональной отдачи. А я просто показала, что как была своим диагнозом, так и осталась.
Она не сказала мне, почему хочет, чтобы я пожила с отцом, но я и сама знаю причину. Она разочаровалась и не хочет меня видеть. А я возненавидела себя.
Так возненавидела, что, приехав к папе, поняла, что не могу заговорить с ним. Мне просто страшно говорить, потому что все равно ничего дельного я выдать не смогу.
И я стала писать.
Я забыла спиннер, так что к тому времени, как добралась до дома, обкусала все ногти на руках.
9
На следующий день я вспомнила про еще один свой козырь – фотографию Ирмы – и решила исследовать ее.
Сама девочка ничем не выделялась. Обычная школьница, светлые волосы, серьезное лицо, форменное платье. И кто она Урсуле и Хельмуту, непонятно. Фотография снята в 1994 году, к старикам она попала, видимо, до их таинственного исчезновения. Я говорю исчезновения, потому что если бы они умерли, об этом скорее всего узнали бы в ближайшем поселке, а значит, Жюли рассказала бы мне.
Уже через пять минут разглядывания снимка я осознала, что это бессмысленно. У меня мелькнула идея позвонить в мэрию поселка, дом наверняка должен быть там зарегистрирован, может, мне согласятся что-то сказать, но потом поняла, что это глупо. Все равно я побоюсь заговаривать с незнакомцами, еще и по телефону. Да и нужны будут доказательства, что я имею какое-то отношения к Шульцам, просто так мне не предоставят информацию.
Я швырнула фотографию на стол обратной стороной. Наклонилась и рассмотрела надпись. Тут под ней я заметила вдавленные очертания слов.
Из детективных фильмов я знала, как с таким работать. Взяла карандаш и потерла все видимые следы. Слова проявились не очень четко, но достаточно, чтобы я могла хоть немного прочесть.
Посылаю вам фотографию вашей внучки Ирмы, о существований которой вы даже не знали… огорчить: вы никогда ее не увидите. Вы скажете, что я жесток, спустя 14 лет молчания уведомить вас о том, что у вас есть внучка, приложить ее снимок и сообщить, что это единственный раз, когда… ее видите. Но на самом деле это благородно с моей стороны. Вы уже стары, и я не хотел бы, чтобы вы умерли…о внучке. А может, вы правы, и это моя месть, потому что я вас не простил и не прощу. Я просто понял, что стоит послать вам ее фотографию.
Уве
Сверху были следы цифр. Я проявила и их. Октябрь 1994.
Я встала и прошлась из угла в угол, как обычно, когда мне нужно подумать.
В конверте, который я нашла, помимо фотографии Ирмы было и письмо от их сына, Уве. И старики его прочли. Только куда они его дели? Я вспомнила, что в кухне есть печь. Неужели сожгли от отчаяния? Впрочем, не важно. Теперь я поняла, почему они не отправили то свое письмо с правдой. Урсула и Хельмут впервые за 14 лет получили весточку от сына, и видимо, его жесткость заставила их решить, что смысла рассказывать, как все обстоит на самом деле уже нет, слишком поздно. В октябре 1994 они написали письмо, но, наверное, за несколько дней до его отправки, узнали о внучке, и снова промолчали, оправив правду в ящик стола.
Но, как всегда, остались вопросы. Один – что же было дальше? Они умерли от горя? Зато, узнав благодаря письму Уве, кто такая Ирма, у меня появился шанс раскрыть дело. Нужно просто найти ее и расспросить.
Я так обрадовалась, что не сразу поняла, как труден мой план в исполнении. Для начала – как найти Ирму? Да, я знаю ее имя, фамилия, скорее всего, по отцу, Шульц. Уве переехал во Франкфурт, наверное, она родилась там. Но на этом мои преимущества заканчиваются и начинаются подводный камни. Если Уве поменял фамилию? Если Ирма вышла замуж и поменяла фамилию? Если она родилась в другом городе, или переехала, когда выросла?
Даже если все так идеально и ничего не поменялось, как я ее найду? Куда звонить, куда писать? И что я ей скажу? И в конце концов, она может просто ничего не знать. Уве не хотел, чтобы она знакомилась с бабушкой и дедушкой, скорее всего, он ей и не рассказывал о них, может, выдумал какую-то ерунду о том, что они были пилотами и разбились, или что там врут детям, когда нужно скрыть правду.
Расстроенная, я села на кровать. Каждый раз почти дохожу до разгадки, и все равно ничего не получается. Неужели это конец? От этих мыслей меня отвлек папа.
– Летиция! Спустись на минуту, – позвал он.
Я сошла вниз и встала напротив него.
– Ты же помнишь, что завтра у тебя прием у врача? В четыре.
Я кивнула.
Я хожу к врачу раз в месяц. Он спрашивает, как я себя чувствую, как часто у меня истерики, нет ли каких-то тревожных симптомов, типа депрессии. В конце он прописывает мне психотерапию, на которую я ни разу за последний год не сходила. Просто у меня такой же блок, как и папой: не могу заговорить с психотерапевтом. Мне предлагали письменные практики, но я сознательно отказалась. Я не хочу, чтобы мне помогали, хотя надо бы. Это что-то вроде наказания самой себя.
Я вернулась к себе и занялась перечитыванием письма Уве, пытаясь понять его мотивацию, эмоции, чувства. Но эта затея не увенчалась успехом. Похоже, тот момент после прочтения октябрьского послания Урсулы и Хельмута был первым и последним в моей жизни, когда я смогла считать эмоции, понять других людей. Эта инвалидность со мной навсегда.
На самом деле, я пыталась принять себя. Я читала много статей об современном движении против того, чтобы болезни были клеймом, в частности, аутизм и синдром Аспергера. И я полностью поддерживаю их. Болезнь не должна быть клеймом. Я не считаю других аутистов ненормальными, я уверена, что они могут многого добиться, потому что, как говорила моя мама, болезнь не определяет тебя и твою личность. Проблема в том, что я не могу принять себя. Я ненавижу и считаю ненормальной только себя. Может, это лицемерно, но я ничего не могу с собой поделать. Мне было тяжело принять свою особенность еще до произошедшего, но я справлялась. В каком-то смысле благодаря маме и ее вере в то, что я могу быть такой же, как другие люди. А после развода родителей все рухнуло. Я поняла, что мой диагноз – это все, из чего я состою. Я не гений, у меня нет каких-то способностей, которые компенсировали бы мои странности. Я просто разрушаю. Вот и вся правда в моей истории.






