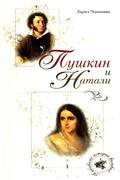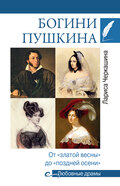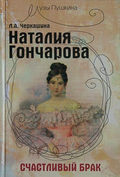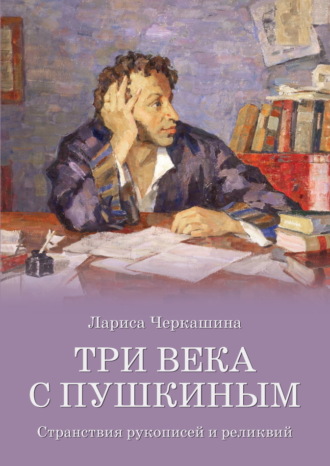
Лариса Черкашина
Три века с Пушкиным. Странствия рукописей и реликвий
Юбилеи
В начале 1937-го Елена Александровна покинула Францию: в те дни она пребывала в Англии, что известно из её же письма, адресованного в Париж в феврале того года: «Глубокоуважаемый господин редактор! Получила сочинение дедушки Александра Сергеевича и юбилейный номер «Иллюстрированной России», за которые приношу Вам сердечное спасибо! Так было приятно увидеть все фотографии моего племянника Григория, который сейчас на военной службе в России, я видела его в последний раз перед отъездом на юг из Москвы, когда ему было три года. В 1917 году. И я не имела ни малейшего понятия, на что он стал похож, так как писать туда я не смею. Теперь, благодаря Вам, я имею возможность в далёкой Англии провести много приятных часов, читая и перечитывая стихи и прозу дедушки… Если могу быть Вам чем-нибудь полезной здесь, в Англии, пожалуйста, дайте мне знать».
Думается, перед отъездом из России Елена Александровна приезжала в подмосковную Лопасню проститься с тётушками Гончаровыми и с семейством брата Григория Пушкина. И, верно, там, в старинной усадьбе, она впервые встретила племянника Григория (в декабре того тревожного года ему должно было сравняться четыре), и симпатичный малыш не мог не запомниться ей.
А спустя ровно двадцать лет, в 1937-м, она вдруг увидела фотографию уже возмужавшего племянника, воина. В непривычной для неё будёновке, да ещё с… красной звездой. И это-то – потомок древних боярских и дворянских родов! Как разительно переменилась вся жизнь!
Жила ли Елена Александровна тогда у богатых английских родственников в замке Лутон Ху, или врождённая гордость не позволила ей воспользоваться их гостеприимством? Неведомо. Но владелицу замка, леди Зию, внучка поэта по праву родства именовала кузиной.
Да, ей довелось увидеть Лондон, о котором давным-давно грезил её великий дед. «Помнишь ли ты, житель свободной Англии, что есть на свете Псковская губерния?» – вопрошал поэт счастливца-друга из своего сельца Михайловское.
Сколь много упоминаний о Лондоне на страницах пушкинских рукописей!
Воображаю… Лондон…
Но Лондон ждал тебя…
Но Лондон звал твоё внимание…
Это ещё одна европейская столица, куда уносился в мечтах «невыездной» Пушкин! Не случайно его герой Евгений Онегин, только-только увидевший свет, почти англичанин, «как dandy лондонской одет». Он во всём изысканен и следует незыблемым постулатам дендизма. Да и сам Александр Сергеевич не отвергал для себя безупречную английскую моду!
…В феврале 1937-го британская столица чествовала память Пушкина: в юбилейных празднествах деятельное участие приняли правнучки поэта, сёстры леди Зия Уэрнер и маркиза Нада Милфорд-Хейвен. Думается, и Елена Александровна, как самая близкая по родству к поэту в Великобритании, непременно была на тех торжествах.
А в столице Франции дни памяти Пушкина прошли с небывалым размахом. И как созвучен настроению, царившему тогда среди русских эмигрантов, возглас одного из них: «И только теперь, в далёкой разлуке, до конца стало понятным то чувство невозвратной потери, которое возникает при словах: Россия, Пушкин!»
Отозвался на печально-трагический юбилей Иван Бунин: «Страшные дни, страшная годовщина – одно из самых скорбных событий во всей истории России, той России, что дала Его».
Но чувства, владевшие тогда всеми русскими, точно и образно, как некую математическую аксиому, вывел поэт и религиозный мыслитель Дмитрий Мережковский: «Что Пушкин для нас? Великий писатель? Нет, больше: одно из величайших явлений русского духа. И еще больше: непреложное свидетельство о бытии России. Если он есть, есть и она. И сколько бы не уверяли, что её уже нет, потому что самое имя Россия стёрто с лица земли, нам стоит только вспомнить Пушкина, чтобы убедиться, что Россия была, есть и будет».
Так что парижская выставка, посвящённая столетию гибели поэта, обрела величайший духовный смысл для русских изгнанников. И, как ни странно, дарила надежду вновь обрести потерянную ими родину.
От печальных чуждых стран,
В край родной на север с юга…
Как самых желанных и почётных гостей Серж Лифарь встречал из Брюсселя Николая Пушкина, брата Елены, и её родного племянника Александра. Среди множества памятных фотографий, сделанных в те дни, одна весьма необычна: на ней – Серж Лифарь с правнуком поэта и его тёзкой Александром Пушкиным в окружении «муз» – балерин Гранд-Опера; в центре живописной группы – беломраморный бюст самого поэта.
«Живу в Ницце»
В конце тридцатых Елена Александровна вместе с дочерью перебралась из Парижа на Лазурный Берег, в Ниццу. Светлана подросла, превратилась в хорошенькую барышню и покинула мать: устроилась работать в парижскую кондитерскую.
Иван Бунин:
«Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлэн, холёными ручками с серебряными ноготками завёртывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками; а я жила и всё ещё живу в Ницце чем Бог пошлет…»
Верно, Светлана навсегда перечеркнула русское прошлое своей семьи, решив для себя стать «настоящей француженкой».
Отношения с дочерью явно не сложились: равнодушие – вот верное слово, что объясняет томительный домашний разлад. Елена Александровна, как мать, верно, осуждала легкомысленность своей Светланы. И прежде всего быстротечный роман дочери, следствием коего стало рождение младенца Александра.
Семнадцатилетняя барышня явно была не готова к материнству и, отдав маленького сына в один из детских приютов под Парижем, умчалась в безвестную даль на поиски счастья. Буквально упорхнула из жизни несчастной матери, из жизни осиротевшего сына: более никто и ничего о ней слышал.
Ранее, в 1937-м, Светлана Александровна не без гордости могла созерцать фотоснимок дочери в юбилейном номере «Иллюстрированной России». На странице с надписью «Дети и внуки поэта» красовались фотографии её отца, генерала Пушкина, в полный рост, в парадном мундире, с именной саблей на боку, дядюшки Григория Пушкина, бывшего свидетелем на венчании её родителей в Лопасне, племянника Григория, красноармейца в островерхой будёновке, и дочери. Под снимком миловидной девочки-подростка, в костюме эльзаской крестьянки, с цветочным венчиком на головке, подпись: «Светлана, правнучка поэта».
Верно, это единственная известная её фотография! Достоверное свидетельство бытия неведомой правнучки поэта, покрытое такой же завесой тайны, как и неведомый дневник её прадеда. Такие вот открытия случаются, стоит лишь полистать страницы старых забытых журналов!
Ну а Елена Александровна не оставляла попыток выжить в одиночку в солнечной и безмятежной, но такой чужой и равнодушной Ницце, занимаясь мелким комиссионерством: торговлей, перепродажей старых вещей. Какое-то время ей это удавалось.
Одна из старых русских эмигранток, жительница Ниццы, вспоминала: «Такая плотная большеголовая дама лет за сорок. Ходила в коричневом картузе и немецких солдатских ботинках на толстой подошве. Бедствовала ужасно. Говорят, чуть однажды руки на себя чуть не наложила. Как-то её видели у бара, где поджидают своих клиентов продажные женщины».

Иван Бунин (в центре) с женой и друзьями на вилле в Грассе.
Конец 1930-х – начало 1940-х гг.
Не хотелось бы верить последнему замечанию, мемуары безымянной эмигрантки явно грешат некоей предвзятостью.
И вот среди похожих безрадостных дней судьба преподносит Елене Александровне одно из последних утешений – она знакомится с Иваном Буниным. Писатель живёт неподалёку от Ниццы, в Грассе, живописном городке, приютившемся в Приморских Альпах, откуда открывается чудный вид на безбрежную морскую даль.
Дневник из Грасса
В один из летних дней 1940-го (в Европе уже вовсю полыхает Вторая мировая!) в Ницце, безмятежной и далёкой от ужасов войны, Иван Бунин повстречал Елену Александровну и пометил в дневнике (запись от 6 июня): «…крепкая, невысокая женщина, на вид не больше 45, лицо, его костяк, овал – что-то напоминающее пушкинскую посмертную маску».
Благодаря дневнику Ивана Алексеевича легко проследить, как развивалось то знакомство. Хронология её жизни – краткие записи, обернувшиеся проникновенными строками рассказа. Жизнь изгнанницы, лишённая бытовых подробностей, тяжёлых и некрасивых, обратилась грустной поэтической сказкой: «Какая холодная осень…»
Она часто бывает в Грассе, в гостях у Буниных, на их чудесной вилле, да и писатель, приезжая в Ниццу, навещает внучку поэта и свою… родственницу. Родственные отношения меж ними – дальние, но кровные узы, связующие семьи Павловых и Буниных, – легко прослеживаются.
Мать Елены Мария Александровна, урождённая Павлова, приходилась двоюродной сестрой дворянину Павлову. А как следует из записок писателя: «…Дед Павлова по матери – моряк Иван Петрович Бунин, брат Анны Петровны Буниной, поэтессы… Дед Павлова по отцу – Николай Анатольевич Бунин». Такие вот генеалогические переплетения!
Писатель упоминает моряка Ивана Петровича Бунина (капитана 2-го ранга, известного как учредитель Кронштадтского морского собрания) и его родную сестру Анну, поэтессу.
Анна Бунина, родоначальница женской лирики, оставила свой след в русской поэзии, из-за пристрастия к античной поэзии её называли «Русской Сафо», Десятой Музой, Северной Кориной. Кстати, Александр Сергеевич несколько раз упоминал Анну Бунину: не так-то щедра поэзия тех времен была на женские имена. Правда, в ироническом контексте, уподобляя её поэту-графоману Хвостову, давней мишени многих сатирических стрел.
Пушкин, как известно, женскую поэзию не жаловал. Исключения для поэтесс крайне редки. Сам же Иван Бунин гордился родством с «Русской Сафо», неизменно припоминая отзыв Карамзина об Анне Буниной: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно».
Но в 1940-м писателя занимала личность не славной родственницы-поэтессы, а самой Елены Александровны, внучки русского гения. «Елена Александровна фон Розен-Майер, на которую мне было даже немножко странно смотреть, – признавался писатель в одном из писем, – ибо она только по своему покойному мужу, русскому офицеру, стала фон Розен-Майер, а в девичестве была Пушкина…»
Знакомство продолжилось, и Бунин не раз с восторгом упоминал о встречах с внучкой поэта, ведь в ней «текла кровь человека для нас уже мифического, полубожественного!»
Строки из бунинского дневника, запечатлевшие встречи с Еленой Александровной, да и саму тревожную атмосферу весны и лета сорок первого:
«7. IV.41. Понедельник.
Вчера в 12 1/2 дня радио: немцы ночью вторглись в Югославию и объявили войну Греции. Начало страшных событий. Сопротивление сербов будет, думаю, чудовищное. И у них 7 границ и побережье!
12. IV.41…
Солнечное утро, но не яркое, не ясное, облака.
Австрия, Чехия, Польша, Норвегия, Дания, Голландия, Бельгия, Люксембург, Франция, теперь на очереди Сербия и Греция – если Германия победит, что с ней будет при той ненависти, которой будут одержимы к ней все эти страны?
«20. IV.41. Св. Христово Воскресение.
Христос Воскресе, помоги Господи!»
(Не ошибусь, если замечу, что в тот праздничный воскресный день Елена Александровна была на пасхальной службе в Ницце, в Свято-Николаевском храме, и на возглас настоятеля «Христос воскресе!» вместе с прихожанами, русскими эмигрантами, восклицала: «Воистину воскресе!»)
«12. VI.41. Ездил в Ниццу, завтракал с Еленой Александровной фон Розенмайер, рождённой Пушкиной – дочь А.А. Пушкина, родная внучка Александра Сергеевича».
«15. VI.41. Вчера у нас завтракала и пробыла до 7 вечера Е.А., эта внучка Пушкина.
Неделю тому назад англичане начали наступление на Сирию».
«21. VI.41. Суббота. Везде тревога: Германия хочет напасть на Россию? Финляндия эвакуирует из городов женщин и детей… Фронт против России от Мурманска до Чёрного моря? Не верю, чтобы Германия пошла на такую страшную авантюру. Хотя чёрт его знает. Для Германии или теперь или никогда – Россия бешено готовится. <…>
В городе купили швейцарские газеты: «отношения между Германией и Россией вступили в особенно острую фазу». Неужели дело идет всерьёз?»
22. VI.41. 2 часа дня. С новой страницы пишу продолжение этого дня – великое событие – Германия нынче утром объявила войну России – и финны и румыны уже «вторглись» в «пределы» её. <…> Взволнованы мы ужасно. <…> Тихий, мутный день, вся долина в беловатом лёгком тумане».
Думается, что известие о коварном нападении Германии на далёкую родину глубоко поразило и Елену Александровну, болью отозвавшись в её сердце. Благодаря записям Бунина легко восстановить тему бесед, что велись между внучкой поэта и писателем. Но встречи те становились всё реже.
«10. IV.42. Был в Ницце. Пушкина. Её нищенское существование…»
Как выглядела в то непростое для неё время Елена Александровна? Ведь её фотографии тех лет не сохранились, впрочем, если они и были. Но зато известен словесный портрет, оставленный Буниным в одном из писем: «Дорогой друг, три года тому назад со мной познакомилась в Ницце очень скромная женщина в очках, небольшого роста. Лет под пятьдесят, но на вид моложе, бедно одетая и очень бедно живущая мелким комиссионерством, однако ничуть не жаловшаяся на свою одинокую и тяжкую судьбу…»
В июне 1943-го Иван Алексеевич обратился к одному из русских приятелей, явно не бедствовавшему, с просьбой помочь внучке Пушкина. Поздно, счёт её жизни уже пошёл на месяцы и дни: в августе того года Елена Александровна скончалась в городской больнице, не выдержав очередной операции…
Печальная весть долетела до Грасса с большим опозданием. Потрясённый ею Бунин взялся за перо: «7 сентября. 1943. Нынче письмо из Ниццы. Елена Александровна Пушкина (фон Розен-Майер) умерла…
Ещё одна бедная человеческая жизнь исчезла из Ниццы – и чья же! Родной внучки Александра Сергеевича! И может быть, только потому, что по нищете своей таскала тяжести, которые продавала и перепродавала ради того, чтобы не умереть с голоду! А Ницца с её солнцем и морем всё будет жить и жить! Весь день грусть…»
И супруга писателя Вера Бунина, взволнованная той же вестью, не могла не оставить памятную запись: «Вчера получили известие о смерти Лены Пушкиной… Кто мог подумать, что такая судьба ждёт Лену? Нищета, одиночество, смерть в клинике…»
«Констанция»
Бывшая клиника «Констанция» и поныне ютится на окраине города, в районе Святого Бартоломея, на одном из живописных холмов. Уютный двухэтажный особнячок, с синими ставнями и белоснежными стенами, утопает в зарослях бугенвиллии, густо усыпанных сочными ярко-фиолетовыми соцветиями.
Но разыскать «Констанцию» в современной Ницце оказалось делом нелёгким, никто из старожилов о такой клинике не помнил. Ведь прежняя клиника давным-давно сменила название и ныне в ней – пристанище для престарелых. Лишь одна из обитательниц дома, старая француженка, слышала, что здесь угасла жизнь внучки русского гения. Отсюда, из этих больничных стен, Елена Александровна взывала к Бунину с мольбой о помощи: «Милый Иван Алексеевич, на пасхальной неделе я чувствовала себя не очень хорошо, а во вторник 4 мая, вызванный доктор срочно вызвал в 9 часов вечера карету Скорой помощи и в 10 часов меня оперировали… Думали, что я не выживу и 48 часов, но Бог милостив: видно, час мой ещё не пришёл, я медленно поправляюсь.
Вот скоро месяц, как я лежу в клинике; недели через полторы меня выпустят на месяц, а потом мне предстоит вторая операция… Я ещё очень, очень слаба, пишу вам, а лоб у меня покрыт испариной от усилия. Обращаюсь к вам за дружеским советом и, если возможно, содействием: существует ли ещё в Париже Общество помощи учёным и писателям, которое в такую трудную для меня минуту помогло бы мне, в память дедушки Александра Сергеевича, расплатиться с доктором, с клиникой, прожить по выходе из неё, месяц в доме графини Грабовской (60 франков в день), а потом иметь возможность заплатить за вторую операцию? Все мои маленькие сбережения истрачены, но как только встану на ноги, я опять начну работать и обещаюсь выплатить мой долг Обществу по частям. Работы я не боюсь, были бы силы!»
Сколько жажды жизни в каждой строке этого последнего письма Елены фон Розенмайер и как обнажены сила, воля и твёрдость её характера!
Словно горьким эпилогом пути Елены Александровны, её странствий и надежд стали строки писателя: «Она была такая же бездомная, бедная эмигрантка, как все мы, бежавшие из России… добывала в Ницце пропитание тяжким трудом, которым и надорвала себя так, что перенесла две операции. Оплатить вторую операцию, которая свела её в могилу, у неё уже не хватало средств, – их нужно было добывать как милостыню у добрых людей. И я сделал тут всё, что мог, но это уже её не спасло. Так на моих глазах погибла родная внучка Пушкина».
Добавлю, и родная внучка Наталии Николаевны. Так уж случилось, что каждая из них – и бабушка, и внучка – свою последнюю в жизни весну провела в Ницце.
«Лазурь чужих небес»
В Ницце, жемчужине Средиземноморья, Наталия Николаевна оказалась не ради удовольствия. Здоровье её было настолько расстроено, что врачи предписывали ей жить в мягком средиземноморском климате.
Одно из немногих свидетельств тех дней – записки князя Владимира Голицына: «Зиму 1861–1862 годов я с родителями проводил в Ницце, и там жила вдова Пушкина, Наталия Николаевна, урождённая Гончарова, бывшая вторым браком за генералом Ланским. Несмотря на преклонные уже года, она была ещё красавицей в полном смысле слова: роста выше среднего, стройная, с правильными чертами лица и прямым профилем, какой виден у греческих статуй, с глубоким, всегда словно задумчивым взором».
На Лазурном Берегу Наталия Николаевна проведёт свою последнюю в жизни зиму, встретит последнюю весну. С кем из русских виделась она в те далёкие годы, кто из них был душевно близок ей? Вот круг её друзей и знакомых: Лобановы, Урусовы, Абамелек, герцог Хамильтон… Их фотографии остались в старинных альбомах, сохранённых дочерью Наталии Николаевны.
Навещала вдова поэта и жившую на царской вилле больную императрицу Марию Александровну, искренне её полюбившую.
Тогда Наталия Николаевна жила в предвкушении встречи с оставшимися в России близкими. Но именно в Ницце судьба словно расщедрится и преподнесёт ей свой прощальный подарок…
Город заполонили праздничные карнавальные торжества. Префект Ниццы устроил большой костюмированный бал, пригласив на него представителей европейских аристократических семейств, в то время отдыхавших на курорте. И появление на балу Наталии Николаевны вызвало тогда всеобщий восторг.
Её дочь Александра Ланская сохранила память о том незабываемом дне: «В течение Ниццского карнавала легендарная красота матери вспыхнула последним бывалым блеском… В тот вечер серо-серебристое атласное платье не скрывало чудный контур её изваянных плеч, подчёркивая редкую стройность и гибкость стана. На гладко причёсанных, с кое-где пробивающейся проседью, волосах лежала плоская гирлянда из разноцветно-темноватых листьев, придававшая ей поразительное сходство с античной камеей, на алой бархотке вокруг шеи сверкал бриллиантами царский подарок, и словно окутанная прозрачной дымкой, вся фигура выступала из-под белого кружевного домино, небрежно накинутого на голову. Ей тогда было ровно пятьдесят лет, но ни один опытный глаз не рискнул бы дать и сорока. <…> Я шла за нею по ярко освещённой анфиладе комнат, и до моего тонкого слуха долетали обрывками восторженные оценки: «Поглядите!.. Таких прекрасных женщин уже не бывает! Вот она, славянская красота! Это не женщина, а мечта!»
Александра не называет адрес, где состоялся исторический приём. Но разгадка проста: упомянуто имя префекта Savigni, и, следовательно, бал столь высокого международного уровня мог пройти лишь во Дворце префектуры. Величественный особняк, служивший прежде дворцом савойских герцогов, и по сей день стоит в центре Ниццы, неподалёку от старой рыночной площади.
Две мраморные женские головки, похожие на античных богинь, украшают его вход. За ажурной решеткой, в зарослях магнолий, проступает колоннада изящного дворцового портика, различимы и стеклянные потолки-витражи верхней галереи.
Сюда в феврале 1863-го к этой великолепной ограде подъехала карета, и госпожа Наталия Ланская в сопровождении супруга-генерала и взрослой дочери проследовала во дворец. И эти каменные головки с загадочными полуулыбками на устах стали безмолвными свидетельницами звёздного часа русской красавицы. Здесь, в стенах дворца средневековых властителей, ждал её настоящий триумф!
Последнее торжество в земной жизни Наталии Николаевны. От первого бала в зимней Москве в особняке на Тверском бульваре, где юная Натали впервые встретилась с Пушкиным, до последнего, в Ницце, пролегли долгие тридцать пять лет. Целая жизнь…
Камни знаменитой Английской набережной, что гигантской подковой легла вдоль бухты Ангелов, кажется, ещё помнят её легкую поступь. Здесь, «на променаде», Наталия Николаевна каждодневно прогуливалась в неизменном чёрном одеянии, в шляпе с вуалью, закрывавшей лицо от солнечных лучей. Редко кто видел её улыбающейся, смеющейся – грусть уже давно стала вечной спутницей вдовы поэта.
О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет – и не может…
Сколь созвучны тютчевские строки с судьбами двух женщин, связанных близким родством, – бабушки и её несчастной внучки, – не встречавшихся при жизни.
Печаль стала обыденным состоянием души и для Елены Александровны, заброшенной в чужую страну не по собственной воле. Когда-то и она была счастлива на этом ласковом средиземноморском берегу. Будто в другой жизни.
Иван Бунин:
«Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году – и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!»
Знала ли Елена Александровна, что здесь, в Ницце, прошёл последний бал её бабушки, поистине неувядаемой красавицы? Прогуливалась ли она по знаменитой Английской набережной, как некогда Наталия Николаевна? Вряд ли, бедную эмигрантку одолевали совсем иные заботы.

Лазурный Берег Средиземноморья, где прошли последние дни внучки Пушкина.
Фотография автора. 2002 г.
Да, жизнь русской беженки на чужбине сложилась нерадостно. Надо отдать должное внучке поэта: она сумела вывезти из объятой революционным хаосом России семейные вещицы, связанные с дорогими для неё именами, сохранить их в бесчисленных скитаниях. В числе фамильных раритетов, что привезла с собой на Лазурный Берег Елена Александровна, был и портрет Наталии Пушкиной – тончайшая акварель кисти Вольдемара Гау. Портрет этот известен в нескольких вариантах: один являлся собственностью дочери Наталии Николаевны Александры, переданный в Пушкинский Дом её сыном Петром Араповым; другой – внучки Елены Пушкиной, доставшийся ей от отца. На последнем есть небольшие отличия в изысканном бальном наряде Наталии Николаевны: на полях маленькой чёрной шляпки изображена звёздочка, а струящееся страусовое перо выписано с удивительной чёткостью. Эта акварель и станет в будущем собственностью Сергея Лифаря, гордостью его Пушкинианы.
В Ниццу, куда забросит Елену Александровну прихотливая эмигрантская судьба, она возьмёт с собой и гусиное перо своего великого деда, хранящее на кончике засохшие чернила, так и не обратившиеся поэтической строкой…
Как мечтал побывать Пушкин в романтической Франции, в далёких южных краях: «Я жажду краёв чужих; авось полуденный воздух оживит мою душу»! А вот и другое свидетельство, уже знакомца поэта: «Всё словно бьёт лихорадка, – говорил Пушкин, закутываясь, – нездоровится что-то в нашем медвежьем климате. Надо на юг, на юг!»
«Поэзия проснулась под небом полуденной Франции – рифма отозвалась в романском языке». Думалось ли Александру Сергеевичу, когда его перо выводило эти строки, о Ницце? Почему бы и нет, название французского города могло быть знакомо поэту, ведь именно там при его жизни увидела свет книжка «Письма русского», где автор, рассуждая о верноподданнических добродетелях, присущих русскому народу, в качестве наглядного примера приводит… самого Пушкина!
Печальный, вижу я
Лазурь чужих небес, полдневные края…
Русская Ницца – так многие десятилетия называли этот красивейший уголок Средиземноморья на далёком Лазурном Берегу. История этого удивительного города, столицы Французской Ривьеры, снискавшей титул «жемчужины Средиземноморья», вобрала в себя судьбы знаменитых русских семейств: венценосных Романовых, Оболенских, Трубецких, Кочубеев, Гончаровых, Пушкиных. Причудливо распорядилась судьба, избрав этот французский город хранителем памяти многих русских людей. И как необычно, через века, соединились в Ницце жизненные пути наследников великого поэта.
Незнаемые Пушкиным внуки и правнуки. Словно на мгновение, как на старом дагеротипе, отразились их лики в лазурной глади Средиземного моря.