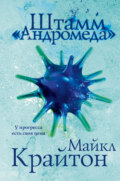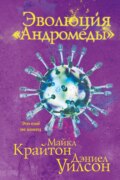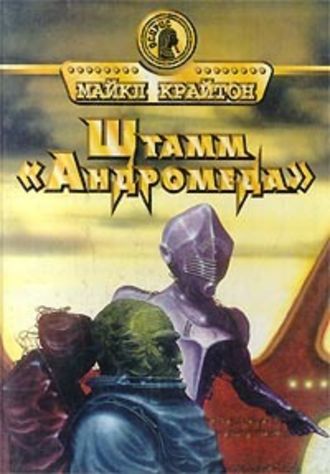
Майкл Крайтон
Штамм «Андромеда»
– А тем временем, – сказал Стоун, – можно приступить к анализу песчинки – если это действительно песчинка. Вы в ладах с электронным микроскопом?
– Подзабыл, наверно, – признался Ливитт. С электронным микроскопом ему не приходилось работать уже без малого год.
– Тогда я подготовлю образец. Еще надо будет произвести масс-спектрометрию. Впрочем, это делается автоматически. Но сначала нужно большее увеличение. Какое у нас максимальное оптическое увеличение в морфологической?
– Тысячекратное.
– Начнем с этого. Направьте песчинку в морфологическую лабораторию…
Ливитт бросил взгляд на пульт и нажал кнопку «Морфология». Стоун манипуляторами бережно установил чашечку с песчинкой на конвейерную ленту. Не сговариваясь, они обернулись и посмотрели на стенные часы. 11.00 – они работали без отдыха уже 11 часов.
– Ну что ж, – заметил Стоун, – пока все вроде бы хорошо…
Ливитт улыбнулся и, как суеверный школьник, скрестил средний и указательный пальцы.
Глава 16
Секционная
Бертон работал в секционной. Он нервничал, все еще не в силах отделаться от воспоминаний о Пидмонте. Позже, анализируя свою работу и ход мыслей, он горько сожалел, что тогда, на пятом уровне, не сумел взять себя в руки.
Ибо уже в самой первой серии опытов Бертон допустил несколько ошибок.
По инструкции в его обязанности входило патолого-анатомическое исследование мертвых животных, но на него возложили также и предварительное определение путей распространения болезни. По правде говоря, такая работа была не под силу Бертону; Ливитт подошел бы для нее куда больше. Однако считалось, что Ливитт будет полезнее на предварительном этапе выделения и распознавания чуждого микроорганизма. Поэтому исследовать пути распространения болезни поручили Бертону.
Эксперименты эти были достаточно просты и элементарны. Для начала Бертон поставил в ряд несколько клеток. Каждая из них снабжалась воздухом автономно; системы подачи воздуха можно было соединять между собой различными способами. Герметизированную клетку с трупом норвежской крысы он поставил рядом с другой клеткой, где сидела живая крыса. Нажал несколько кнопок и открыл свободный доступ воздуха из первой клетки во вторую. Крыса кувыркнулась и сдохла.
«Любопытно, – подумал Бертон, – перенос по воздуху…»
Подцепил еще одну клетку с крысой и поставил возле двух предыдущих, но в соединительном воздухопроводе установил микропористый фильтр с диаметром пор 100 ангстрем – размер мелкого вируса. Открыл доступ воздуха через фильтр. Крыса осталась жива. Подождал еще минуту-другую. Вывод был ясен: каков бы ни был возбудитель болезни, по размеру он больше вируса.
Бертон несколько раз менял фильтры, ставил все более и более крупнопористые, пока возбудитель, наконец, не прорвался через поры и крыса не сдохла. Проверил диаметр пор: два микрона – величина небольшого одноклеточного организма.
«Это уже нечто ценное, – подумал он, – теперь я знаю размеры возбудителя…»
Открытие было и вправду важное: одним простым экспериментом он исключил возможность того, что болезнь вызывается белковой или иной молекулой. В Пидмонте они со Стоуном подумали было, что разносчик болезни – газ, например выделяемый патогенным организмом. Теперь стало ясно, что газ ни при чем: возбудитель болезни имеет размеры клетки, иначе говоря, много крупнее молекулы или частицы газа.
Следующий шаг представлялся не более сложным – определить, заразны ли трупы.
Из клетки, где лежала одна из мертвых крыс, он выкачал воздух. От спада давления крысу разорвало, но Бертон, не обращая на это внимания, продолжал откачивать воздух, пока не достиг предельного вакуума. Затем заполнил клетку чистым, профильтрованным воздухом и открыл этому воздуху доступ к клетке с живой крысой.
Ничего не произошло.
«Любопытно», – подумал он снова. При помощи дистанционно управляемого скальпеля он вскрыл мертвое животное, чтобы микроорганизмы могли из внутренностей перейти в воздух.
И опять ничего не произошло. Живая крыса весело бегала по своей клетке.
Результат был ясен: мертвые животные не заразны. «Вот почему остались живы стервятники в Пидмонте, – подумал он. – Болезнь не может передаваться через трупы – ее передают бациллы, или как их там еще, и только по воздуху…»
Бациллы в воздухе – смертельны.
Бациллы в трупах – безвредны.
В определенном смысле это можно было предвидеть. Такой результат хорошо увязывался с теориями аккомодации, взаимной приспособляемости бактерий и человека. Бертон давно интересовался проблемой приспособляемости и даже прочитал несколько лекций на эту тему в Бейлорском медицинском институте.
Большинство людей, едва заслышав о бактериях, тут же вспоминают о болезнях. На деле же болезнетворны лишь три процента бактерий; остальные либо безвредны для человека, либо даже полезны. В нашем пищеварительном тракте живут, например, многие виды бактерий, способствующие лучшему усвоению пищи. Человек нуждается в них, он от них зависит.
По существу мы обитаем в океане бактерий. Они повсюду – на коже, в ушах и во рту, в легких и в желудке. Все, что у нас есть, все, к чему мы прикасаемся, каждый наш вдох – все насыщено бактериями. Они вездесущи, но мы, как правило, даже не подозреваем об этом.
И тому есть причина: как человек, так и бактерии привыкли, приспособились друг к другу, выработали своего рода взаимный иммунитет.
И этому тоже есть веская причина. Один из основополагающих принципов биологии гласит, что эволюция направлена к тому, чтобы возможность продолжения рода непрерывно возрастала. Если человек быстро погибает от бактериальной инфекции, значит, он плохо приспособлен к существованию; он не проживет достаточно долго для того, чтобы воспроизвести себя в потомстве. Но и бактерии, убивающие своего хозяина, приспособлены не лучше. Ведь паразит, убивающий организм, на котором паразитирует, тоже обречен и должен погибнуть вместе с ним. По-настоящему преуспевают те паразиты, которые питаются за счет своего хозяина, не убивая его. А наиболее приспособленный хозяин – тот, кто не только сосуществует с паразитом, но и извлекает из него пользу, заставляя работать на себя.
– Самые приспособившиеся из бактерий, – любил повторять Бертон, – это те, которые вызывают легкие болезни или же не вызывают вообще никаких. Одну и ту же клетку стрептококка вы можете носить в своем организме шестьдесят – семьдесят лет, благополучно жить, взрослеть и производить потомство, и стрептококк будет жить не менее благополучно. Равные образом в вас годами может жить стафилококк, и единственной вашей расплатой за это будут несколько угрей или прыщиков. С туберкулезом можно жить многие десятилетия, а с сифилисом – и всю жизнь. Эти две болезни отнюдь не из легких, но они стали гораздо менее опасны, чем были некогда, – человек и бактерия взаимно приспособились друг к другу…
Известно, например, что лет четыреста назад сифилис был чрезвычайно опасной болезнью, вызывавшей огромные гнойные язвы по всему телу и убивавшей зачастую в течение нескольких недель. Но прошли столетия, и человек и спирохета стали взаимно более терпимыми. Эти рассуждения отнюдь не столь абстрактны и теоретичны, как может показаться на первый взгляд. На начальной стадии разработки программы «Лесной пожар» Стоун заметил как-то, что сорок процентов всех болезней человека вызываются микроорганизмами. Бертон резонно возразил, что болезнетворны лишь три процента всех существующих микроорганизмов. И хотя от бактерий проистекают многие человеческие страдания, вероятность того, что какая-то отдельно взятая бактерия опасна для людей, очень незначительна. Такое кажущееся противоречие объясняется тем, что процесс взаимного приспособления, «притирки» человека и бактерии сам по себе достаточно сложен.
– Большинство бактерий, – указывал тогда Бертон, – просто не в состоянии прожить в нашем теле так долго, чтобы принести ему вред. В том или ином отношении эта среда для них неблагоприятна. Им либо слишком жарко, либо слишком холодно, среда либо слишком кислая, либо слишком щелочная, кислорода либо слишком много, либо слишком мало. В общем для большинства бактерий человеческий организм так же негостеприимен, как Антарктида…
Отсюда вытекало, что вероятность опасных последствий от контакта человека с внеземными микроорганизмами весьма невелика. Собственно, так думали все, признавая вместе с тем, что базу «Лесной пожар» в любом случае нужно строить. Бертон разделял это мнение, но теперь чувствовал себя довольно странно: ведь его предсказание сбылось.
Да, конечно, организм, который они обнаружили, убивал людей. Но он не был приспособлен к человеку – убивая, он погибал и сам. Он не передавался от одного тела к другому. Секунду-две он жил в теле хозяина и тут же погибал вместе с ним.
Бертон ощутил удовлетворение. Но пока что перед ними стояла вполне практическая задача: выделить микроорганизм, понять его свойства и найти средства для борьбы с ним.
* * *
О способе распространения болезни Бертон кое-что уже узнал. Кое-что он знал и о механизме смерти – свертывание крови. Оставался вопрос: как микроорганизм проникает в тело?
Поскольку инфекция переносится явно по воздуху, вероятен контакт через кожу или через легкие. Микроорганизм может внедряться непосредственно сквозь кожный покров. Или попадать в легкие при дыхании. Или и то и другое.
Как же это выяснить?
Возникла идея: надеть на экспериментальных животных какую-нибудь защитную оболочку, которая оставляла бы открытым только рот. Это осуществимо, но слишком хлопотно. Битый час он сидел и ломал себе голову, пока не натолкнулся на приемлемое решение.
Если смерть наступает вследствие свертывания крови, то свертывание, вероятно, начинается там, где микроорганизм проник в тело. Если через кожу, кровь сначала свернется в подкожных сосудах. Если через легкие – процесс начнется в груди и будет распространяться от легких к конечностям. И это поддается экспериментальной проверке. Применив метод меченых атомов, придав радиоактивные свойства белковым компонентам крови, можно с помощью сканирующего сцинтилляционного устройства определить, где именно начинается свертывание крови.
Для опыта Бертон выбрал обезьяну-резуса, анатомически куда более близкую человеку, чем крыса. Ввел ей в кровь радиоактивное вещество – изотоп магния – и настроил сканирующий сцинтиллограф. Выждав некоторое время, чтобы изотоп равномерно распределился по кровеносной системе, он привязал обезьяну к столу и установил над ней аппарат.
Теперь можно было начинать.
Сканирующий сцинтиллограф, управляемый ЭВМ, зафиксирует, где начинается и как распространяется свертывание. Введя в ЭВМ программу на выдачу результатов в печатной форме, Бертон открыл доступ воздуху, содержащему смертоносный организм, в клетку с обезьяной. Печатающее устройство немедленно застучало, выдавая на бумажной ленте серию схематических контуров тела.
Уже через три секунды все было кончено. Схемы сообщили то, что он хотел знать: свертывание начинается в легких и оттуда распространяется по всему телу.
* * *
Но, кроме того, он выяснил еще одну небезынтересную подробность. Сам он об этом рассказывал так: «Я все думал, что, быть может, свертывание крови и смерть не совпадают по времени или по крайней мере не вполне совпадают. Казалось просто невероятным, что смерть может наступить за три секунды, но еще менее вероятным представлялось, чтобы вся кровь – пять с лишним литров – свернулась за столь короткое время. Мне хотелось выяснить: может быть, смерть вызывается каким-либо одним тромбом, например в мозгу, а процесс свертывания всей крови протекает более медленно?»
Таким образом, уже на ранней стадии исследований Бертон задумался о роли мозга. Теперь, когда все позади, просто обидно, что он тогда не довел этих исследований до логического конца. И помешали ему именно показания сцинтиллографа: свертывание начинается в легких и распространяется по сонным артериям к мозгу спустя одну-две секунды.
Так или иначе, первоначальный интерес Бертона к мозгу отпал, а следующий опыт лишь усугубил эту его ошибку.
* * *
Опыт был простой и не предусмотренный инструкциями по программе «Лесной пожар». Бертон знал, что смерть совпадает по времени со свертыванием крови. А нельзя ли предотвратить смерть, если предотвратить свертывание?
Он взял несколько крыс и ввел им гепарин – антикоагулянт, препятствующий образованию тромбов. Гепарин – быстродействующее лекарство, широко применяемое в медицине; действие его изучено досконально.
Бертон ввел препарат внутривенно, различными дозами – от минимальной до массированной, избыточной. Затем все подопытные крысы подверглись действию воздуха, содержащего смертоносный организм.
Крыса с минимальной дозой гепарина сдохла через пять секунд. Остальные сдохли тоже, одна за другой, в течение первой минуты. Крыса, которой он ввел максимальную дозу, прожила почти три минуты, но затем свалилась и она.
Бертон был обескуражен: смерть хотя и оттягивалась, но не предотвращалась. Метод симптоматического лечения не действовал. Он отложил мертвых крыс в сторону – и тут совершил решающую ошибку.
Он не стал вскрывать крыс, которым ввел антикоагулянт.
Вместо этого он занялся животными – черной норвежской крысой и обезьяной-резусом, которые погибли первыми от контакта с капсулой. Он провел полное вскрытие их трупов. А к крысам, которым был введен антикоагулянт, даже не притронулся.
Прошло больше суток, прежде чем он осознал свою ошибку.
Вскрытие Бертон провел особенно тщательно, не спеша, постоянно напоминая себе, что не вправе ничего упустить. Отделив внутренние органы крысы и обезьяны, он обследовал каждый отдельно и взял пробы для оптической и электронной микроскопии.
Первичный общий осмотр выявил, что животные погибли от распространенного внутрисосудистого свертывания крови. Артерии, сердце, легкие, почки, печень, селезенка – все органы, обильно снабжаемые кровью, затвердели, окаменели. Впрочем, он и не ждал ничего другого.
Он перенес ломтики тканей в другой угол секционной, чтобы подготовить замороженные срезы для микроскопического исследования. Лаборант готовил один срез за другим, а Бертон исследовал их под микроскопом и фотографировал.
Все ткани выглядели совершенно нормально. Если не считать свернувшейся крови, ничего необычного в них не было. Бертон знал, конечно, что те же кусочки тканей будут впоследствии переданы в гистологическую лабораторию, где другой лаборант приготовит окрашенные срезы, пустив в дело гематоксилин-эозин, йодную кислоту (по Шиффу) и формалин (по Ценкеру). Срезы нервных тканей будут окрашены препаратами золота по Нисслу и Кахалу. На это уйдет еще двенадцать-пятнадцать часов. Хорошо, если бы окрашенные срезы выявили что-нибудь новое, но оснований ожидать этого у него в сущности не было.
Не менее пессимистически был настроен Бертон и относительно результатов электронной микроскопии. Электронный микроскоп, конечно, ценный инструмент, но иногда он не облегчает задачу, а, напротив, затрудняет ее. Он дает огромное увеличение и выявляет множество деталей – если только вы знаете, куда смотреть! Электронный микроскоп очень хорош для исследования отдельной клетки или части клетки – но сначала надо решить, какую именно клетку исследовать. А в человеческом организме клеток миллиарды.
К концу десятого часа непрерывной работы Бертон откинулся на спинку кресла и подвел итоги своим наблюдениям. Он составил краткое резюме:
1. Смертоносный агент имеет размер приблизительно один микрон. Таким образом, это не газ, не молекула, даже не белковая молекула и не вирус. Размер его соответствует размеру клетки, и он, вполне возможно, и есть какой-то одноклеточный организм.
2. Агент переносится по воздуху. Мертвые организмы не заразны.
3. Агент проникает в организм жертвы через легкие при вдохе. Оттуда он предположительно проходит в кровь и вызывает свертывание.
4. Агент вызывает смерть вследствие свертывания крови. Смерть наступает через несколько секунд и совпадает по времени со свертыванием крови во всей кровеносной системе.
5. Антикоагуляционные препараты не предотвращают смертельного исхода.
6. Никаких других патологических изменений, помимо свертывания крови, в организме умершего животного не обнаружено.
Бертон перечитал написанное и покачал головой. Антикоагулянты, быть может, и не действуют, но факт остается фактом: есть что-то, способное приостановить процесс. Есть какой-то способ предотвратить смерть, Он знал это наверняка.
Потому что два человека выжили.
Глава 17
Пришел в себя
В 11.47 Марк Холл склонился над панелью ЭВМ, на которой светились результаты лабораторных анализов, взятых у Питера Джексона и ребенка. ЭВМ выдавала результаты, как только они поступали из автоматической лабораторной аппаратуры; к этому времени почти все анализы были уже готовы.
Ребенок, как убедился Холл, был совершенно здоров. ЭВМ сообщила об этом недвусмысленно:
Пациент: ребенок
Все показатели в пределах нормы
С Питером Джексоном дело обстояло иначе. Тут имелись отклонения от нормы, и весьма существенные.
ПАЦИЕНТ: ДЖЕКСОН ПИТЕР
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТКЛОНЯЮЩИЕСЯ ОТ НОРМЫ:
ВИД АНАЛИЗА /НОРМA /ФАКТИЧЕСКИ/МАТОКРИТ
8-54
1 первичн.
25 повтори.
29 повтори.
33 повтори.
37 повтори.
Остаточный азот /0-20 /50
Ретикулоциты /1 /6
В крови значительное количество незрелых эритроцитов
РН крови /7,40 /7,31
РОЭ /9 /29
Амилаза /70-200 /450
Некоторые результаты было нетрудно понять, другие пока представляли собой загадку. Гематокрит, например, повысился, поскольку Джексону переливали кровь, насыщенную эритроцитами. Остаточный азот, характеризующий работу почек, оказался выше нормы, вероятно, вследствие недостаточности кровообращения.
Другие показатели были характерны для потери крови. Ретикулоциты поднялись с 1 до 6 процентов в связи с общим анемичным состоянием пациента. Обилие незрелых эритроцитов показало, что организм стремится возместить потерю крови, вводя в общий ток молодые, незрелые клетки. Протромбиновое время свидетельствовало, что, несмотря на кровотечение где-то в желудочно-кишечном тракте, свертываемость крови у Джексона вполне нормальная. Скорость оседания эритроцитов указывала на наличие процесса разрушения тканей. Какие-то ткани в организме Джексона отмирали.
А вот значение рН объяснить было гораздо сложнее. Цифра 7,31 указывала на повышенную кислотность крови, хотя и не чрезмерную. В чем тут дело, Холл понять не мог. ЭВМ, впрочем, тоже.
Пациент: Джексон Питер
Вероятный диагноз
1. Острая и хроническая кровопотеря, вероятность желудочно-кишечного происхождения – 0,884
Других статистически существенных источников нет
2. Повышенная кислотность крови
Происхождение неизвестно
Требуются дополнительные данные. Запросить историю болезни
Холл перечитал рекомендации ЭВМ и пожал плечами. Не хватало еще, чтобы она предложила поговорить с пациентом! Легко сказать – ведь Джексон был без сознания, и даже если он принял что-нибудь, от чего кровь стала кислой, узнать об этом, пока он не придет в себя, нельзя.
А может, попробовать анализ на газы крови? Холл отстучал на клавишах ввода дополнительное задание.
Но ЭВМ стояла на своем:
История болезни предпочтительнее новых анализов Холл отстучал: «Пациент без сознания».
ЭВМ как будто призадумалась – и вдруг зажегся ответ:
Объективно потери сознания нет. Электроэнцефалограмма регистрирует альфа-ритм, соответствующий обычному сну – Да будь ты проклята, – выругался Холл. Он глянул сквозь окно на Джексона и увидел, что тот и в самом деле шевелится во сне. Холл торопливо прополз по туннелю-шлангу к комбинезону и склонился над своим пациентом:
– Мистер Джексон, проснитесь…
Старик медленно открыл глаза и уставился на Холла. Моргнул удивленно раз, другой.
– Не пугайтесь, – спокойно сказал Холл. – Вы больны, и мы вас лечим. Вам уже лучше, не правда ли?..
Джексон проглотил слюну и кивнул. Казалось, он боится проронить слово. Но мертвенная бледность уже сменилась румянцем на щеках и из-под ногтей ушла синева.
– Как вы себя чувствуете?
– Ничего… Кто вы?..
– Меня зовут доктор Холл. Я ваш лечащий врач. У вас было сильное кровотечение. Пришлось сделать вам переливание крови.
Джексон кивнул, вроде бы даже не удивившись. Холл отметил про себя неожиданно спокойную реакцию старика, и его осенило:
– У вас это и раньше бывало?
– Бывало. Дважды.
– А как начиналось раньше?
– Что-то не пойму, где я, – сказал старик, озираясь. – Это что, больница? И почему на вас эта штука?..
– Нет, это не больница, а специальная лаборатория в штате Невада.
– Невада? – Он закрыл глаза и помотал головой. – Но я живу в Аризоне…
– Теперь вы в Неваде. Мы привезли вас сюда, чтобы вам помочь…
– А почему на вас эта штука?
– Мы привезли вас из Пидмонта. Там была эпидемия. Вы сейчас в изоляторе.
– Значит, я заразный?
– Пока еще не ясно. Но мы обязаны…
– Слушайте, – сказал вдруг Джексон и попытался встать. – Не нравится мне тут. Страшно. Я домой пойду. Я не хочу…
Он сделал еще одну попытку встать, тщетно борясь с ремнями. Холл мягко толкнул его обратно на подушку.
– Успокойтесь, мистер Джексон. Все будет хорошо, успокойтесь. Поймите, вы очень больны…
Джексон нехотя откинулся на спину.
– Дайте сигарету…
– Извините, но придется вам обойтись без сигарет.
– Какого черта! Я курить хочу.
– К сожалению, курить здесь нельзя.
– Слушай-ка, милый, поживи с мое, так сам будешь знать, что тебе можно, а чего нельзя. Мне и раньше твердили: острого нельзя, курева нельзя, выпить тоже нельзя. Я попробовал. Думаешь, лучше стало? Хуже некуда…
– Кто вам говорил обо всем этом?
– Как кто? Врачи.
– Какие врачи?
– Да в Финиксе. Шикарная больница – машинки всякие блестят, халаты накрахмалены. Да, шикарная больница. Я бы нипочем туда не пошел, если б не сестра. Она там, понимаешь, в этом Финиксе живет. С мужем со своим, с Джорджем, дурак он набитый… Я и не хотел совсем туда в эту больницу, я отдохнуть хотел, и все. А она уперлась, ну я и пошел…
– Когда это было?
– Да в прошлом году. В июне, не то в июле…
– А почему вы обратились в больницу?
– Почему все люди обращаются в больницу? Болен был, черт побери…
– Что у вас болело?
– Да, как всегда, желудок проклятый.
– Кровотечение?
– Еще какое! Как икну, так кровь. Даже и не знал, что у человека столько крови…
– Значит, желудочное кровотечение?
– Ну, я же сказал. И тоже иголки втыкали, – он кивнул на трубки внутривенного вливания, – и кровь переливали… В прошлом году в Финиксе, а за год до того в Тусоне. Вот в Тусоне действительно было здорово. Сестричка там за мной ходила – ягодка… – Он неожиданно замолчал. – Слушай, сынок, а сколько тебе лет? Что-то слишком молод ты для врача…
– Я хирург.
– Хирург? Ну, уж нет, не выйдет. Они и тогда все меня уламывали, но я им наотрез – не дам, не позволю. Ни за что. Ничего вы у меня не вырежете…
– Значит, у вас язва уже два года?
– Да побольше даже. Никогда ничего со мною не было, и вдруг скрутило. Думал, съел чего-нибудь не то, а тут кровь пошла…
«Два года, – про себя отметил Холл. – Определенно язва, а не рак».
– И вы, стало быть, легли в больницу?
– Ну лег. Подлечили меня там, точно. Предупредили, чтоб ни острого, ни спиртного, ни табака – ни-ни. Я старался, сынок, правда, старался. Все одно без толку. Ведь привычка у меня…
– И через год вы попали в больницу снова…
– Ну да. Здоровенная такая больница в Финиксе. Да еще этот идиот Джордж с сестрицей кажный день навещали. Ученый он, знаешь, книги читает, а все дурак дураком. Адвокат! Говорит как пишет, а у самого ума-то как у сверчка в ляжке…
– И в Финиксе вас хотели оперировать?
– То-то и оно. Не обижайся, сынок, но врачам только волю дай, они тебя тут же взрежут. Не могут они без этого. А я им тогда: я, мол, со своим желудком столько лет прожил, ну уж и до конца с ним как-нибудь дотяну…
– Когда вы выписались из больницы?
– Да в начале августа, наверно. Что-нибудь числа пятого или десятого.
– И как выписались, опять начали курить, пить и есть что не положено?
– Знаешь что, сынок, давай без проповедей, – сказал Джексон. – Я уже шестьдесят девять лет ем, что не положено, и делаю, что не положено. Мне так нравится. А если нельзя, тогда к чертям собачьим…
– Но у вас, наверно, были сильные боли…
– А то нет! Особенно на голодный желудок. Но я придумал, как с ними управляться…
– Да ну?
– Еще как! В больнице мне снадобье сунули, вроде молока. Глотать велели понемногу раз сто на день. Противное, вроде мела на вкус… Но я нашел кое-что получше.
– Что же это вы нашли?
– Аспирин, – торжествующе сказал Джексон.
– Аспирин?
– Ну да. Помогает – будь здоров.
– Сколько же аспирина вы принимали?
– Да прилично, особенно в последнее время. Бывало, что и пузырек в день. Знаешь, его в таких пузыречках продают…
Холл кивнул. Вот вам и разгадка повышенной кислотности. Аспирин – это же ацетилсалициловая кислота, и если принимать его в таких количествах, кислотность просто не может не повыситься. Но, с другой стороны, аспирин раздражает слизистую желудка и способен лишь усилить кровотечение…
– А вам никто не говорил, что от аспирина кровь пойдет сильнее?
– А как же, говорили. Только я на это без внимания. Потому что боли-то снимает. Особенно если еще глотнешь «Стерно»… – Чего-чего?
– «Стерно». Ну, цеженка…
Холл ничего не понимал.
– Денатурат. Процедишь его сквозь тряпочку и пьешь…
– Так вы еще и денатурат пили, – со вздохом сказал Холл.
– Ну, это когда ничего другого не было. А глотнешь аспирину, цеженкой запьешь-и боли как рукой снимет…
– А вам известно, что денатурат – это смесь обычного спирта с метиловым?
– А что, от этого разве что-нибудь может быть? – спросил Джексон с неожиданной тревогой в голосе.
– В том-то и дело, что может. От денатурата можно ослепнуть, а можно и умереть…
– Но мне-то от него было лучше!..
– А на дыхание аспирин с денатуратом не влияли?
– Да уж раз ты спросил, так вроде воздуха не хватало чуток. Но в моем-то возрасте, черт возьми, не много и надо…
Старик зевнул и закрыл глаза.
– Уж больно ты дотошный, сынок. Спать хочу…
Холл взглянул на него и решил, что Джексон прав. Лучше не донимать старика вопросами, особенно в первое время. По туннелю Холл прополз обратно в лабораторию и сообщил лаборантке:
– У нашего друга Джексона язва желудка двухлетней давности. Продолжайте переливание, дайте ему еще одну-две единицы, потом прекратите – посмотрим, что получится. Кроме того, введите желудочный зонд и сделайте промывание ледяной водой…
Раздался удар гонга, и стены отозвались тихим эхом.
– Это еще что?
– Двенадцать часов прошло. Пора менять одежду. А вам идти на совещание…
– Мне? Куда?
– Конференц-зал рядом с кафетерием…
Холл кивнул и вышел.
* * *
Электронные устройства сектора «Дельта» слабо гудели и пощелкивали. Капитан Артур Моррис у пульта вводил в систему новую программу. Капитан Моррис был программист; в сектор «Дельта» его направили, поскольку вот уже девять часов командование первого уровня не получало ни одного сообщения по линии военной спецсвязи. Могло случиться, конечно, что таких срочных сообщений и вправду не поступало, но это было маловероятно.
А если сообщения были, но остались неполученными, значит, в системах сектора есть какая-то неисправность. Капитан Моррис проследил за тем, как ЭВМ выполнила программу самопроверки и выдала результат: все цепи работают нормально.
Но это не успокоило его; он задал машине расширенную программу проверки всех цепей и блоков. Потребовалось всего 0,03 секунды, чтобы ЭВМ выдала ответ – на панели замигал ряд из пяти зеленых лампочек. Капитан подошел к телетайпу и прочитал:
Все цепи функционируют а пределах допустимых характеристик Теперь он был удовлетворен. Не мог же он знать, хоть и стоял у телетайпа, что неисправность есть, только не электронная, а чисто механическая, какую не выявишь никакими проверочными программами. Неисправность таилась в самом телетайпе: от края рулона оторвалась полоска бумаги и, загнувшись вверх, засела между звонком и молоточком. Звонок, естественно, не звонил и поступление сообщений по секретной линии Министерства обороны не регистрировал.
Подобной мелочи не могли обнаружить ни человек, ни машина.