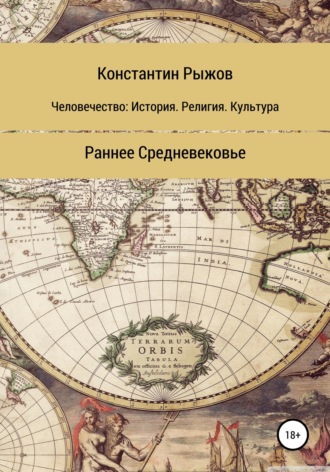
Константин Владиславович Рыжов
Человечество: история, религия, культура. Раннее Средневековье
Следовательно, субсистентно род не может существовать не только как множество, ибо тогда он был бы не един, но и как единство, ибо тогда он был бы лишен своего основного признака – общности. Вывод: род вообще не может существовать как субсистенция. Аналогичное рассуждение может быть построено в отношении вида. Таким образом, Боэций отклоняет ту концепцию универсалий, которая получила впоследствии название «реализм» (от слова «res» – вещь, реальный, конкретный предмет).
Но Боэций отвергает и другую крайность: воззрение на роды, виды и т. п. как на чистые конструкции пашей мысли, не имеющие никакого аналога в объективной реальности, т. е. воззрение, которое можно было бы условно назвать крайним концептуализмом, так как универсалиям приписывается особое, только мысленное, существование. Ведь если роды, виды и т. п. суть только чистые понятия ума, не имеющего под собой никакого реального подлежащего, то такие понятия следовало бы признать ложными или пустыми, т. е. понятиями ни о чем. А если они – истинные понятия, то они должны выражать то, что существует в действительности, и, следовательно, должны существовать соответствующие им и независимые от них объекты, но это уже означало бы, что универсалии существуют реально (субсистентно). Поэтому только мысленное существование универсалий в обоих случаях исключается.
Итак, Боэций приводит нас к заключению, что универсалии не могут существовать ни субсистентно (а, значит, тем более, субстанциально, ибо чтобы быть субстанцией чего-то, надо уже быть самостоятельно, т. е. субсистентно), ни только мысленно, поскольку в последнем случае понятие общего оказывалось бы не соответствующим действительности. Какой же выход?
Боэций обращается за помощью к знаменитому комментатору Аристотеля, философу II в. Александру Афродисийскому. Тот опирался на аристотелевскую теорию обобщения путем абстрагирования. Он, в частности, заметил, что понятие, если оно даже не выражает своего предмета в точности так, как он есть на самом деле, не всегда является пустым или ложным. Например, если мы изучаем какой-либо целостный объект, то, подвергая его анализу, мы волей-неволей вынуждены поочередно рассматривать его отдельные стороны и свойства, отвлекаясь от других, хотя в действительности они существуют неотделимо от других. Значит ли это, что такого рода отвлеченное («оторванное», идеализированное) рассмотрение мыслью своего предмета, дает о нем ложное понятие? Александр отвечает: нет, ибо хотя части или стороны целого существуют сами по себе только модально (в возможности, а не в действительности), они тем не менее являются действительными (а не ложными, фантастическими) возможностями, а поэтому правильно образованное понятие о части, стороне, свойстве, качестве, границе целого не будет ложным, хотя существовать все это будет иначе, чем мыслиться. Линия не существует без тела, которому или частям которого она служит границей («кто и когда,—восклицает Боэций,—воспринимал отделенную от тела линию?! И каким чувством?»), но если мы рассмотрим ее в отвлечении от тела, саму по себе, и выведем из ее понятия соответствующую геометрию, то эта идеализированная геометрия будет истинна и для линии, существующей в теле только модально. Шарообразность (сферичность) – это свойство тел и без тел не существует, однако геометрические признаки шара, как такового, т. е. абстрактного, будут теми же, что и признаки шарообразности конкретного тела. Точнее говоря, чем больше конкретное тело отвечало бы требованиям шарообразности, тем больше оно удовлетворяло бы геометрии абстрактного, идеального шара.
Учитывая эти соображения Александра Афродисийского, Боэций предлагает далее следующее решение проблемы универсалий. Подобно тому, как точки, линии и поверхности существуют только в конкретных телах, а мыслятся отдельно от них, так и все роды, виды и т. п. существуют только в единичных субъектах (индивидах) – неважно, телесных или бестелесных, но мыслятся в отрыве от них, и при этом не мыслится ничего ложного, ибо мысля универсалии, мы только мыслим те черты разных конкретных индивидов, которые делают их при всех различиях похожими друг на друга. Черты эти не существуют, правда, в отрыве от других, делающих данные индивиды неповторимыми, но все-таки они существуют, поэтому понятия рода, вида и т. п. не являются ложными.
Итогом рассмотрения универсалий в духе той интерпретации Аристотеля, которую дал Александр Афродисийский, служат такие слова Боэция: «Итак, роды и виды существуют одним способом, а мыслятся другим; они бестелесны, но, будучи связаны с чувственными вещами, существуют в области чувственного. Мыслятся же они помимо тел, как существующие самостоятельно, а не как имеющие свое бытие в других».
5) Теологические трактаты
Боэцию приписываются пять теологических трактатов, четыре из которых большинством исследователей признаются аутентичными, авторство пятого, излагающего основы католического вероисповедания («De fide catholica»), многими оспаривается. Но как бы там ни было, этот последний трактат имеет чисто богословский характер и этим отличается от четырех других, сочетающих в себе богословское содержание с ясно выраженным философским методом.
Именно благодаря такому сочетанию эти трактаты оказали столь сильное воздействие на формирование схоластической методологии . Вот их названия: 1) «Каким образом Троица есть единый Бог, а не три божества», сокращенно – «Книга о Троице»; 2) «Могут ли и „Отец", и „Сын" и „Святой Дух" сказываться о божестве субстанциально»; 3) «Каким образом субстанции могут быть благими в силу того, что они существуют, не будучи благами субстанциальными», в другом наименовании – «О Гебдомадах»; 4) «Книга против Евтихия и Нестория», называемая также «О лице и двух природах».
Поводом для написания всех этих трактатов послужили церковные споры, имевшие не только религиозные, но и серьезные политические основания. Непосредственным предметом спора был способ понимания богочеловеческой природы Христа («христологическая» проблема). Однако предпочтение того или иного способа понимания этой природы немедленно отражалось на трактовке божественного триединства, вопрос о котором был, казалось бы, решен вселенской церковью еще двести лет назад на Никейском соборе (325 г.), а теперь, в свете христологических дискуссий, снова встал во всей своей сложности («тринитариая» проблема).
В 519 г. в Рим явилась группа монахов из задунайской окраины Византии (их называли скифскими монахами) , чтобы найти у папы поддержку предложенной ими теологической формулы: «Unus de Trinitate passus est сагпе» – «Один из Троицы пострадал телесно», в которой, по их мнению, с наибольшей ясностью фиксировались и божественная сущность Христа и факт его крестной смерти, что открывало возможность совместить Никейскую тринитариую ортодоксию с христологией Эфеса и Халкидона без отталкивания монофизитов. Проблема совмещения в личности Христа человеческой смертности и божественного бессмертия получила название проблемы «теопасхизма».
Своими теологическими трактатами Боэций принял участие в обсуждении всех трех указанных проблем: тринитариой, христологической и теоиасхической. Не считая себя, по-видимому, богословом в собственном смысле, Боэций ограничивается рассмотрением указанных проблем в одном только аспекте – в аспекте философского, логико-рационального обоснования того, что уже ранее через религиозную веру усвоено как не подлежащая сомнению, абсолютная истина.
6) О Троице
В первой главе боэциевского трактата «О Троице» содержится логическое описание догмата о божественном триединстве, принимаемого философом без доказательства, на основании фактической (исторической) оправданности католической веры. «Троица» описывается как конъюнкция трех терминов, эквивалентных по признаку «божественности». Поскольку же этот признак для Троицы субстанциален, то и сама Троица и все три ее ипостаси представляются субстанциально тождественными и суть, следовательно, один и тот же Бог.
Рассуждая о логических признаках единства и множества, Боэций устанавливает в качестве критерия множественности «инаковость», а в качестве критерия единства (тождества) – неразличимость. Смысл его в том, что если у двух (или большего числа) предполагаемых вещей нет никаких взаимных отличий, то речь идет не о многих, а об одной и той же вещи, по-разному называемой. Применяя сознательно этот принцип, Боэций показывает, что, поскольку в католической трактовке Троицы понятие Бога в приложении к каждой из трех ипостасей ничем не отличается, постольку речь должна идти не о трех богах, а о том же самом едином Боге.
В духе платоновско-аристотелевской традиции Боэций трактует материю как источник множественности и сложности, а форму как источник единства и простоты, чтобы, соединив это с учением о форме как чистом бытии и источнике бытия, сформулировать понятие о Боге как субстанции: «Божественная субстанция есть форма без материи, а тем самым она едина и есть то, что она есть». Совпадение в простоте божественной субстанции самого бытия и того, что обладает этим бытием, является важнейшим тезисом не только этого, но и двух последующих теологических трактатов Боэция. Этот тезис станет основополагающим и для будущей схоластики. Он, как и учение о совпадении в Боге всех его атрибутов, проистекает из требований последовательного монотеизма. Ведь если Бог мыслится как абсолютное единое начало всего, то он не может «состоять из чего-то», не может быть множественным, а, следовательно, не может быть сложным, материальным (ибо все материальное множественно), материально-формальным, вообще таким, в котором бы одно отличалось от другого, например, бытие от качества, качество от другого качества и т. п. Все же остальные вещи, происходящие от Бога, этого свойства лишены, ибо лишены абсолютного единства, так что они по необходимости состоят из материи и формы и в них бытие не совпадает с тем, что им обладает, т. е. одно в них обладает большим бытием, другое – меньшим, но ничто не обладает бытием полным.
В четвертой главе Боэций предпринимает исследование применимости к Богу вообще всех возможных «имен», или категорий. Оказывается, что категория субстанции не применима к Богу в том смысле, в каком она употребляется для обозначения носителя свойств и акциденций, ибо привходящих свойств (акциденций) Бог не имеет, а атрибутивные – совпадают друг с другом и самой сущностью (субстанцией) Бога. Поэтому слово «субстанция» может быть высказано о Боге только в переносном значении самодостаточного, единого и безотносительного бытия, в значении «сверхсубстанции».
К Богу не приложимы в обычном смысле ни категория качества, ни категория количества, ибо, в силу Его абсолютной простоты, для Него «быть» и «быть справедливым» или «быть великим»– одно и то же: можно сказать, что «справедливость» это не одно из качеств Бога, а сам Бог в Его субстанции, и то же самое правомерно сказать о Его «количестве», имея в виду, конечно, не пространственную величину и не какое-либо составляющее Его субстанцию множество (это для Бога невозможно), а масштаб Его могущества, знания и благости: «величие» – это не отдельное свойство Бога, как это было бы в случае с человеком; «величие» – это весь Бог.
Что же касается остальных семи категорий, входящих в классификацию Аристотеля, все они, согласно Боэцию, вообще не высказываются о самой по себе субстанции, но только о ее соотнесенности с другими. Однако, когда речь идет о Боге, то такие категории как «место», «время» и т. п., даже будучи только относительными, а не субстанциальными, все-таки не могут быть применимы к Богу в обычном смысле. «Бог повсюду» не значит, как это было бы у других вещей, что Бог помещается в каких-то пространственных местах, но значит только то, что все без исключения сущее зависит от него. Аналогично с категорией «время». То, что Бог существует «всегда», не означает ничего другого, кроме того, что Бог контролирует весь мир в любой момент мирового времени; но сам Он времени не причастен, ибо пребывает в вечном «настоящем», которое в отличие от временного настоящего никогда не переходит в прошлое и будущее. Эта божественная вечность, совпадающая с неизменностью, не выразима в категориях времени, так как даже бесконечное время, или, как называет его Боэций, «непрестанность», несоизмеримо с вечностью по причине текучести, изменяемости его моментов.
Две заключительные главы трактата посвящены вопросу о выразимости в относительных предикатах рационального языка триединой сущности Бога. Главная идея Боэция в этой части состоит в том, что, поскольку выявление отношений между терминами ничего не меняет в собственной природе или сущности соответствующих субъектов, то единству божественной субстанции не может противоречить тройственное множество ипостасей, лиц, если они рассматриваются как относительно различные выражения того же самого Бога. Отношение, говорит Боэций, не создает «инаковости» в вещах, оно создает только различие «лиц», т. е. как бы «обликов», ракурсов предмета. Поэтому, хотя «лица» Троицы различны, отношение между ними есть отношение того же самого к тому же самому, так как они неразличимы в своей субстанции, в своих действиях и т. п., а следовательно, суть одно и то же. Вопрос о том, каким образом в едином Боге, где все субстанциально и ничто не акцидентально, совмещаются нетождественные «лица», для одного из которых быть Отцом, а для другого быть Сыном – субстанциальные свойства, вопрос этот Боэций не берется решать, осознавая, по-видимому, его неподъемность для рассудка. Ведь он признает, что взялся толковать то, «что едва поддается пониманию», и предупреждает, чтобы никто не пытался представить себе все сказанное с помощью воображения, а продвигался исключительно с помощью разума, покуда это возможно. На самом же деле Боэций, задавая тон будущей схоластике, использует в своем трактате не столько философский разум, сколько формально-логический рассудок. И в этом его трактат сильно отличается от одноименного трактата Августина, где та же проблема толкуется не в рассудочной, а скорее в разумно-диалектической форме, когда божественное триединство понимается именно как непостижимое для рассудка диалектическое тождество одного и трех.
Опыт формальной интерпретации тринитариой проблемы, проведенный Боэцием, вряд ли можно признать теологически удачным. Но в трактате затрагивалось немало и философских, метафизических и логических проблем, а самое главное – в нем был четко сформулирован имевший большое будущее метод: метод философствования на теологической теме, т. е. метод схоластики в средневековом смысле слова.
Трактат «Могут ли и „Отец", и „Сын" и „Святой Дух" сказываться о божестве субстанциально» решает задачу, обратную той, которая решалась в книге о Троице: в нем доказывается, что наименования «Отца», «Сына» и «Святого Духа» не относятся к субстанции Бога и не могут поэтому сказываться о Боге субстанциально. Иными словами, Боэций старается здесь доказать, что выражения «Бог есть Отец», «Бог есть Сын», и «Бог есть Святой Дух», взятые в отдельности, некорректны, если в подлежащем «Бог» подразумевается божественная субстанция, так как каждое из этих трех сказуемых (предикатов) таково, что оно не тождественно с двумя другими, в то время как субстанция Отца, Сына и Святого Духа одна и та же. В противном случае пришлось бы допустить, что «Отец» есть «Сын», а это невозможно.
То, что хочет здесь сказать Боэций, касается вопроса логической обратимости предикатов в единичных суждениях. Мы говорим: «Сократ – человек», «Алкивиад – человек», «Критий – человек», и это означает, что все существенные (субстанциальные) свойства человека присущи всем троим. Однако мы не вправе обратить эти суждения и сказать: «Человек – это Сократ» или «Человек – это Критий» и т. п., если только не перечислять всех вообще возможных людей. Иначе Сократ был бы Критием, что невозможно. Как в первом трактате, так и здесь, Боэций логически оправдывает идею божественного триединства тем, что различает субстанциальную и относительную предикацию, причем в число относительных предикатов (т. е. не выражающих специфику субстанции Бога) он включает не только наименование божественных ипостасей, «лиц», но само наименование Троицы.
7) О благости вещей
Трактат «О Гебдомадах» (почему он получил такое название, т. е. в буквальном переводе «О седьмидах» или «О семерках», не вполне ясно) написан на тему, когда-то весьма волновавшую и Плотина, и Августина: как соотносятся абсолютное бытие Бога и бытие несовершенных конечных вещей, существующих в этом мире временно и зависящих в своем существовании от бытия совершенного.
Боэций строит свой трактат по математической модели. Он предпосылает цепи рассуждений объяснения терминов и исходные правила, первичные дистинкции и аксиомы. Рассуждение начинается с демонстрации логических трудностей, заключенных в понятии «благости вещей». Доказывается, что вещи не могут быть благими ни по причастию, ни по субстанции, так как будучи благими субстанциально, они были бы тождественны Богу. Далее проводится мысленный эксперимент, устраняющий идею Бога как высшего блага. Рассматриваемые сами по себе, вещи предстают сложными, благость и бытие в них не совпадают, поэтому их бытие проистекает не из них самих, а из некоей воли Блага, которое есть в то же время само бытие. Отсюда – бытие вещей благо, поскольку происходит из самого бытия, которое, в силу своей абсолютной простоты, тождественно с тем, что оно есть, или с Благом.
Следовательно, все вещи существуют в Боге, вследствие уже одного того, что они существуют. Причем всегда быть благим является в вещах прерогативой одного только существования, ибо его вещи получают только от Бога, в Котором «быть» и «быть благом» – одно и то же. Ведь для существующей вещи «быть» – это уже хорошо, но для белой вещи «быть» еще не значит быть белой, ибо источник бытия есть благо, но не есть белизна. Вместе с тем Боэций считает, что, имея от Бога существование, которое есть их благо, вещи все-таки не подобны Богу, и как раз потому, что у Бога, говоря более поздним языком, существование совпадает с сущностью, а у вещей нет.
8) О природах Христа
Последний из упомянутых выше трактатов – «Против Евтихия и Нестория», как явствует из самого его названия, посвящен сугубо теологической теме: следует ли считать, что Христос и состоит из двух природ, и заключается в двух природах – как считали католики; или же надо признать только первое и отвергнуть второе, как это делали некоторые евтихиане. Сторонники евтихианского монофизитства, как известно, принимая формулу «из двух природ», в то же время утверждали, что в личности Христа человеческая природа, полученная от Марии, была полностью поглощена божественной природой, полученной от Логоса, так что нельзя сказать, что личность Спасителя существует «в двух природах». Боэций подверг аналитическому разбору христологию сначала несториан, а затем и евтихиан, дополнив этот разбор логической реконструкцией «срединного» вероучения католиков. Как обычно, основным средством своего исследования Боэций сделал уточнение и определение главных понятий, таких как «природа» (natura), «личность» (persona), «бытие» (esse), «субстанция» (substantia), «самостоятельное существование» (subsistentia), «сущность» (essentia) и некоторые другие. Уже сам перечень названных понятий свидетельствует о философской содержательности данной работы. Громадное значение для философии имел перевод соответствующих терминов с греческого на латинский язык.
Наибольший интерес в этом отношении представляют первые три главы. Свой разбор Боэций начинает с понятия «природа». Устанавливаются основные смыслы, в которых это понятие употребляется в философии. Их четыре. Во-первых, согласно Боэцию, под «природой» понимается вся совокупность мыслимого, включая Бога и чистую материю.
Во-вторых, термин «природа» употребляется, по Боэцию, для обозначения совокупности всех субстанций, телесных и духовных,– всего того, что обладает способностью действовать и претерпевать.
В-третьих, «природой» называется мир только телесных субстанций, способных к движению и покою.
Однако Боэция для его целей больше интересует четвертое значение термина, когда «природой» того или иного явления называют его характерную определенность, его видовое отличие. Именно в этом смысле, по его мнению, теологи говорят о природах Христа. Во второй главе, переходя к анализу понятия «лицо», «личность», Боэций концентрирует внимание на природе субстанции. Ведь слово «личность» в обычном употреблении не может относиться ни к качеству, ни к количеству, ни к чему-то другому, но только к субстанции, да и то не ко всякой. В третьей главе трактата (самой грудной для понимания) Боэций приходит к своему прославленному определению «личности» или «лица» (persona): «naturae rationa- bilis individua substantia» – «неделимая субстанция разумной природы». Это – первое в истории философское определение «личности». Боэций понимает «личность» как разновидность единичной – и поэтому неделимой – субстанции, такую, природе которой свойственна разумность.
Установив понятие «лица» для теологических целей, философ должен был теперь соотнести его с понятием «ипостась», так как спор, в который включился Боэций, шел пока еще в греческих терминах, и то, что у латинян выражалось в формуле «Едипый Бог в трех лицах» у греков звучало, как «Единый Бог в трех Ипостасях». Поскольку обе формулы означали то же самое, Боэцию пришлось для начала поставить между «лицом» и «ипостасью» знак равенства. Для лучшего обоснования этого равенства он ссылается на то, что и сами греки часто применяют вместо термина «ипостась» термин «лицо». Точно подметив, что современные значения этого греческого слова, как и латинского слова «persona» происходит от первоначального значения – «личина», «маска», Боэций указывает на родственную этимологию этих слов и на семантическую обоснованность перехода от «маски» к ее деривативу – «личности». Однако он все-таки считает, что для выражения «индивидуальной субсистенции разумной природы» больше подходит не термин «персона» т. е. «личность», «лицо», а термин «ипостась», буквально переводящийся на латынь как «субстанция», но употребляющийся греками как раз в смысле «индивидуальной и разумной субстанции». Чтобы разъяснить все это поточнее и чтобы тонкости применяемой греческими теологами диалектики не остались недоступными латинскому миру, Боэций устанавливает, далее, возможно более точную корреляцию двух рядов важнейших онтологических терминов – греческих и латинских.
Разобравшись таким образом в терминах, Боэций применяет их затем к излагаемой проблеме соотношения природ и личности Христа. Он приходит к выводу, что если говорить о Троице, то следует считать, что в ней одна сущность, одна субсистенция (субъект сущности), но три субстанции и три лица (персоны). Он, правда, тут же оговаривает, что Церковь не позволяет говорить о Боге как о трех субстанциях, и Боэций, проделавший такую работу ради того, чтобы доказать тождество «ипостаси» и «субстанции», в дальнейшем следует все-таки предписанию Церкви. Что же касается вопроса о лице и природах, то в оставшихся главах книги он доказывает, что в одном лице (ипостаси) вполне может совмещаться две различные природы (сущности), и что ошибкой Heстория было распределение божественной и человеческой «природ» по разным Лицам, а заблуждение Евтихия состояло в непонимании разницы между «лицом» (субстанцией) и «природой» (сущностью, видовой определенностью).
9) «Утешение Философией»
Последнее произведение Боэция – «Утешение Философией» – во многих отношениях книга итоговая. Это итог философских и логических его изысканий, итог поэтических опытов, итог научной и политической деятельности, итог жизни. Ее стилистические особенности – выражение ее содержания в форме, объемлющей большое разнообразие литературных приемов и жанров; сочетание в ней исповедального и моралистического настроения с напряженнейшей работой аналитического ума – только подтверждают, что перед нами книга-завещание, плод последних раздумий большого мыслителя-гуманиста, почитающего своим долгом в трагической ситуации приближающейся смерти поделиться с другими для их пользы всем накопленным опытом жизни, опытом мышления и творчества.
Из пяти книг «Утешения» первая напоминает исповедь, вторая – моралистическую диатрибу, третья – сократический диалог, четвертая и пятая – теоретический трактат. Кроме того, сочинение написано в форме «сатуры», когда прозаические части чередуются с поэтическими и для каждой из частей свободно избирается свой литературный слог и поэтический размер.
Помимо повествовательных и поэтических Боэций, как и Марциан, использует в своем сочинении и ряд драматических приемов, но с наибольшей последовательностью он применяет приемы диатрибы, философской наставительной беседы, где в роли наставницы выступает сама госпожа Философия, а в роли наставляемого – узник этого мира Боэций. Беседа имеет не столько чисто дидактический, сколько терапевтический характер. Развитие сюжета выглядит как последовательное решение некоей медицинской задачи: от постановки диагноза болезни в первой книге, через стадии сначала предварительного, а затем основного, радикального лечения в остальных книгах, до полного исцеления пациента в конце работы. В ходе терапии врачующая Философия следит за меняющимся состоянием Боэция, осведомляется о его самочувствии, методично чередует более мягкие и слабые целительные средства с более горькими и сильными, ободряя и утешая больного. И все это в сочинении Боэция совсем не похоже на простой литературный эксперимент, на игру. Его понимание миссии философии как целительницы души очень серьезно и оно имеет глубокие корни в античной культуре, где философия долго была наделена жизнетворческой и душеспасительной функцией, почти полностью перешедшей потом к религии.
Философия утешает и исцеляет, просвещая. Ее медикаменты – знания и идеи, а единственный способ лечения – логическое рассуждение, иллюстрируемое поэтическими образами. Никакой мистической терапии, никаких оккультных средств, никакого сверхразумного внушения. В «Утешении» Боэция совсем не используется путь откровения. Недаром Философия у Боэция имеет облик не богини, а смертной женщины. Аллегорически изображенная Боэцием в первой книге «Утешения», она являет собой строгую и властную даму с величественной осанкой, но с трудно определимым возрастом и ростом. Строгость Философии – символ того, что ее дело, направленное на поддержание не только культуры, по и самого смысла жизни, очень серьезно и требует максимума труда и дисциплины. Ее властность, символизируемая скипетром, который она держит в одной руке, выражает ее правительную миссию в науке и в жизни. В другой руке она держит книги – знак просвещенности и единения мысли со словом. Ее неуловимый возраст – у нее видны и черты ее древности, и черты юности («горящие глаза») – свидетельство того, что философия никогда не устаревает и всегда актуальна. А рост ее, то возвышающийся до небес, то понижающийся до человеческих размеров, означает, что она по старинному определению есть знание вещей божественных и человеческих, что она универсальна и по предмету и по методу. Наконец – ее одежда. Она выдает и ее высокое происхождение и непростую историю ее жизни. Одеяние ее нетленно, как нетленны те формы мысли и слова, в которых философия себя выражает. Таков портрет Философии, нарисованный Боэцием.
Центральной для всей книги является проблема Судьбы. У Боэция она выступает в двух модификациях, как проблема Фортуны и как проблема Рока (Fatum). Боэций, следуя большинству античных моралистов, предлагает относиться к Фортуне, к случайному, нечаянному счастью или несчастью, спокойно: не слишком ликовать, когда вам везет, и не унывать, когда не везет, помня всегда о том, что переменчивость – это не болезнь и не аномалия Фортуны, а ее сущность и природа. Если бы Фортуна подчинялась постоянству и закону, она перестала бы быть самой собой. Ибо латинское слово «Fortuпа» происходит от слова «forte», что значит «случайно», «нечаянно», «может быть» (а может и не быть). Когда мы требуем от Фортуны, чтобы она посылала нам всегда только благоприятные обстоятельства, мы требуем от нее невозможного. Дары Фортуны – это то, что мы получаем не столько по заслугам, сколько в силу обстоятельств. Сюда Боэций относит знатность, власть, почести, богатство, славу и чувственные наслаждения, с ними связанные. Знатность, т. е. высокое происхождение, от нас не зависит совсем.
В отличие от стоиков Боэций не призывает нас презирать Фортуну. Он даже учит быть благодарным ей, когда она, вдруг расщедрившись, посылает нам свои дары. Надо только помнить, что все, получаемое нами от Фортуны, дается нам не навсегда, а на время и к тому же дается взаймы, чтобы потом мы это вернули. Когда Фортуна отнимает у нас ранее данное, мы не должны роптать и обвинять ее в несправедливости, ибо никаких обязательств о передаче нам ее даяний в вечное пользование она никогда нам не давала. «Никогда Фортуна не сделает твоим того, что природа сделала тебе чуждым».
Как это ни парадоксально, Боэций считает, что мы должны больше благодарить Фортуну, когда она отвращается от нас, чем когда она нас балует. Ведь удача, ставшая привычной, расслабляет и притупляет бдительность, чем делает неизбежную в дальнейшем перемену Фортуны особенно тягостной. Наоборот, испытания судьбы закаляют и делают особенно приятным ее неожиданный поворот к лучшему.
Однако, тысячи раз убеждаясь на опыте в непостоянстве и превратности Фортуны, мы, замечает Боэций, тем не менее неизменно влечемся к ее сомнительным дарам. Это происходит потому, что в них есть некое подобие блага, а благо как раз и является единственным предметом всех наших стремлений. Точнее говоря, то, чего мы больше всего желаем, – это счастье, блаженство, но что же такое блаженство, как не обладание благом! Таким образом, путь к счастью – это приобщение к благу. Из всего этого Боэций выводит свое классическое определение: «Блаженство – это совершенное состояние, которое является соединением всех благ» и другое: «Блаженство есть благо, которое, когда оно достигнуто, не оставляет желать ничего большего».
Согласно Боэцию, ошибка людей – в том, что они, стремясь к своему благополучию, не обращают внимание на его подлинный источник и, гоняясь за призраками счастья, не ведают о действительном благе. Как и все платоники, как и Августин, Боэций считает, что это благо, служащее последним основанием всех конечных, односторонних и неполноценных благ, следует искать не во внешних вещах, а в душе человека. Ведь человек, – говорит Боэций, вторя платоникам и отцам христианской церкви, – это образ Божий, и образ этот заключается в его бессмертной душе. Насколько же недостоин человек самого себя, когда он гоняется за телесными, суетными, смертными благами, а душой своей пренебрегает. В этом есть и что-то кощунственное: стремясь к низкому, человек оскорбляет своего Творца. Ибо предмет стремления в определенном смысле выше того, кто к нему стремится; и если кто-то, например, посвящает себя накоплению сокровищ, он ставит себя тем самым ниже презренного металла, безжизненных минералов. Только те сокровища, которые собраны в душе, возвышают человека и угодны Создателю.







