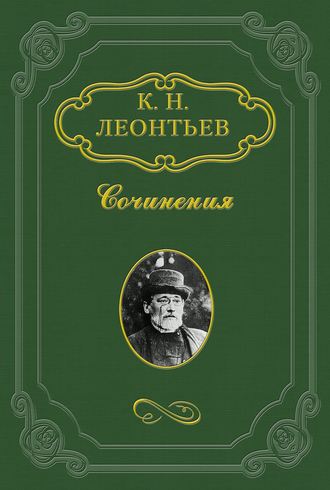
Константин Николаевич Леонтьев
Мои воспоминания о Фракии
Я ошибся сказав, что мне все нравилось. Нет, одно мне очень не нравилось: мне было очень противно, что все эти дети болгарских и греческих горожан были одеты европейскими пролетариями. На хорошеньком Костаки серая жакетка; у певческого сына долгополый черный сюртук, и его отроческая шея обмотана самым безобразным огромным черным галстуком; маленький страшный Куру-Кафы тоже в одежде «интеллигенции», и воротник его скверного сюртука очень сален… (Может быть теперь он депутатом в Болгарии… Кто знает?)
Гораздо милее городских детей и чище с виду были маленькие сельские болгары, которых иногда заранее припасал откуда-то заботливый драгоман наш, чтоб они преемственно учились здесь петь по-русски. Эти сельские дети были очень оригинальны и опрятны; в национальной одежде из несокрушимого темного сукна домашней работы, с бараньими шапочками, которые мы им приказывали в церкви снимать, они стояли так скромно и чинно, склонив до половины свои обритые головки… Но не знаю отчего они скоро куда-то исчезли, а городские пролетарии наши оставались нам верны и пели.
В большие праздники, впрочем, и они были одеты получше. При церкви были маленькие старые стихари, нарочно для них сшитые, кажется еще при Ступине. Архимандрит иногда одевал их в эти стихари, на Пасху, например. Но из экономии это делалось редко. Я мучился, чтобы стихарики эти были светлее, складнее сшиты и красивы и чтобы дети-певчие надевали их всегда. Я обращался тогда к нашим посольским дамам, просил старых шелковых платьев, но не допросился… Кому, впрочем, до этого дело?.. Я сказал, что свое чувство передать другим очень трудно…
Ступин, однако, не зная меня, передал мне многие из чувств своих наглядно, своими созданиями…
Когда эти, с виду, положим, и изуродованные, но все-таки греческие и болгарские единоверные мне мальчики под конец обедни так громко восклицали: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимтися, Боже наш!» – восклицали тем самым напевом, который мы привыкли слышать в Москве, Орле или Калуге, то сердце невыразимо веселилось и в самом деле хотелось славить и благодарить Бога за то, что слышишь это радостное родное пение среди города мечетей, пестрых шальвар и шелковичных садов! Замечу, что болгарам, привыкшим к напеву греческому, этот русский напев не очень нравился.
Было еще одно место около Адрианополя – болгарское село Демердеш, где сохранились видимые памятники жизни и деятельности Ступина. Там есть дом, построенный им для себя, вроде дачи, и впоследствии перешедший во владение болгарского училища, и есть церковь, также им воздвигнутая.
Это село Демердеш до Ступина было не село, а простая болгарская деревня. До нее не более получаса скорой ходьбы от Адрианополя. Надо пройти два старых моста, чрез узкую Тунджу и широкую Марицу. Сейчас за последним мостом, направо, стоит несколько больших развесистых старых тополей (не серебристых и не пирамидальных, а других каких-то); около этих прекрасных деревьев, в широкой тени которых часто отдыхали пешеходы и разводили, я помню, иногда огонь какие-то бедные люди, песчаная дорога расходится в две стороны. Правее, чрез обширные плантации шелковицы, идет широкий путь в большое село Карагач; налево пропадает за кустами другая дорога, поуже и посмирнее первой… Это дорога в Демердеш.
Карагач несравненно богаче, чище и… противнее. Это маленький городок, много «архонтских» белых богатых домов; это Сокольники или Петровский парк Адрианополя… Там отдыхает жарким летом после коммерческих трудов, политикует и толстеет скучная местная плутократия всех исповеданий (кроме мусульманского), католики, евреи, может быть, есть и армяне, но больше всего католики. Есть и православные дома. Болгарские хижины первоначального селения совсем почти не видны за высокими купеческими постройками… об них забываешь… Есть даже католическое кладбище. Карагач вовсе не похож на деревню. При богатых этих домах есть, впрочем, очень хорошие сады; цветы цветут; есть красивые, свежераскрашенные прохладные киоски с мраморными фонтанами, которые иногда заставляют бить для гостей… Когда я заехал к одному иноверному торговцу (родом англичанину, но подчинившемуся всем местным обычаям), хромая, толстая супруга его и весьма неинтересная его дочка повели меня тотчас же в киоск. У них киоск был маленький, старый, полукруглый какой-то, не такой хороший, как у красного, высокого апоплектического Бертоме Бадетти (прусского и датского consul honoraire) и не такой, как у бледного, низенького и очень толстого Петраки Вернацца (италианского consul honoraire). Мы сели… Вдруг старый киоск задрожал, заходил, затрепетал весь над нами… Я изумился… Вижу, хозяйка спокойна… что такое?.. Пред нами взвился фонтан. А за спиною нашею все что-то ходит и ходит. Все стучит и стучит… И киоск тоже так и ходит, «strapazirt», как говорят австрийские кельнеры на тех пароходах Ллойда, которые поплоше, трещат и трепещут во время непогоды и волны…
Вся эта возня и весь этот шум были затеяны хозяйкой в честь русского гостя. Вплоть за стеной киоска какая-то водовозная лошадь работала над каким-то колесом… а «жемчужный фонтан» бил предо мной совсем по-восточному!
Вот Карагач. Надо сознаться, что и наша единоверная и единоплеменная «интеллигенция» с точки зрения поэзии в том же роде. Даже досадно на эти фонтаны и благоухающие цветы, когда видишь пред собой какого-нибудь «epicier»[6] в старых панталонах, в жилете и «en manches de chemise!»[7] Это ужасно! Ламартин был проездом в Карагаче и остановился у Петраки Вернацца… Неужели он не страдал?.. Он, который написал Грациеллу и Озеро!.. Нет, он страдал здесь в глубине души… и эта душа его отдыхала, вероятно, только на чем-нибудь азиатском или на темном болгарине, смиренно пашущем за деревней в синей чалме, или на каком-нибудь турецком всаднике, у которого шальвары светло-голубые, а куртка пунцовая и откладные рукава летят на скаку в обе стороны… Пусть всадник тиран, а пахарь жертва… Ламартин и тогда еще, в начале сороковых годов, советовал европейским державам приступить к разделу Турции. Он говорил (в конце своего Путешествия на Восток), что у турок много личных достоинств, утраченных христианами в течение вековой зависимости; но государство турецкое расстроено глубоко и должно пасть; он делил северную, европейскую часть Турции между Россией и Австрией; южные: африканскую и азиатскую части ее вручал Великобритании и Франции… Он предлагал не совсем то, что мы видим теперь, но почти то же самое. Люди с сильным воображением гораздо дальновиднее чисто практических людей; несчастие их именно в том, что они понимают все слишком рано.
Ламартин предлагал раздел Турции; но не потому ли, между прочим, заботился он об освобождении свежих народностей Востока, что ему европейская прогрессивная буржуазия опротивела донельзя и довела его даже до перехода в лагерь социалистов.
Он предлагал европейцам делать социалистические опыты на этой девственной почве Востока; опыты, по его мнению, очень опасные и трудные в старых государствах Запада… Ламартин, быть может, надеялся, что при ближайшем соприкосновении новейших западных учений с восточною мистикой и азиатскою патриархальностью произойдет нечто подобное тому, что случилось у барона Мюнгаузена с лошадью и съевшим ее волком. Барон Мюнгаузен, как известно, приехал в Россию в санках одиночкой. Дорогой напал на него огромный волк. Когда этот волк был уже настолько близко, что ускакать от него не оставалось надежды, барон нагнулся; волк в порыве бешенства перескочил через него, впился в зад лошади и начал ее есть. Барон его долго не трогал, но когда волк дошел уже до головы лошади и, пожирая ее дотла, мало-помалу сам на ее место входил в постромки, барон вдруг ударил его кнутом. Волк испугался, рванулся вперед и… попал в лошадиный хомут… Барон Мюнгаузен продолжал стегать его и волк прекрасно довез его до города.
Конечно, Ламартину нравилось на Востоке именно все неевропейское и он, вероятно, надеялся, что если именно крайнее, самое передовое, еще не выяснившееся на самом Западе перенесть сюда, в эти пастырские и столь живописно уснувшие страны, то произойдет нечто дивное и восхитительное. Европа (совокупность держав) – волк; Турция (как государство) – лошадь. Европа, умертвив Турцию, попадет сама в азиатские постромки и станет опять живописна и поэтична, как она была в старину, хотя и в новой форме…
Отрицательная сторона надежд и пророчеств французского поэта-политика осуществляется на наших глазах; что же касается положительной… возникновения чего-то нового, консервативно-творческого, живописно-движущегося вперед, то до сих пор мы этого не видим.
Сама Россия во всем, начиная от общей политики и кончая бытовым влиянием своим, является на развалинах Турции до сих пор не особою, независимою и своеобразною силой, а лишь самою скромною представительницей общеевропейских идей, европейских интересов, западных обычаев и вкусов…
Но это видим теперь мы!.. А раньше, не только в то время, когда русские войска, союзные султану, угрожали египетскому вице-королю и Ламартин смотрел на них задумчиво на берегах Босфора, но и позднее, в то время, когда наш Ступин господствовал в той самой восточной Румелии, из которой нас удаляют теперь в награду за наш европеизм, тогда ему точно было обо многом можно мечтать…
И можно ручаться, что Ступин, этот простой русский человек, мечтал много о Востоке, живя и молясь в уединенном, зеленом и унылом Демердеше… Для того чтобы мечтать, особенно о судьбах отчизны своей, вовсе не нужно быть знаменитым поэтом.
Я уверен, что и Ламартину все эти европейцы в Азии, все эти тяжелые, тупые и лукавые коммерсанты Карагача были очень противны сравнительно с его идеалом; но для Ламартина была во всех этих Бадетти и Вернацца одна черта, которая могла ему нравиться и как политику, и в иные минуты даже как поэту. Все это горячие, по-видимому, верующие католики. Это могло быть Ламартину приятно.
Но что мог чувствовать при встрече с этими скучными людьми русский человек? Они скучны в обществе; они враги в политике.
Когда русский человек посещал приятного соперника, занимательного пашу или умного и живого англичанина, ему было весело. И он мог забыть на время всю эту международную борьбу. Когда этот самый русский человек посещал скучные, однообразные дома по-европейски уже образованных болгар и греков, он видел на стенах их приемных портреты наших государей, портреты Паскевичей и Дибичей, он видел преданность России, доверие к себе… И острота скуки его, истинно страдальческой, смягчалась уважением, услаждалась любовью… Он забывал, что есть иная, собственная жизнь, живая, страстная, полная ума, и сидя долго-долго в темном углу на длинной и покойной турецкой софе, при свете нагоревшей сальной свечки, он беседовал с преданным хозяином о прежнем «страхе янычарском», о надеждах на Россию и шансах неизбежной борьбы; собирал пустые и почти всегда верные сведения, принимал нередко в высшей степени полезные советы… а единоверные дамы в платочках – мать, сестра, теща, дочери – почтительно безмолвствовали, зевали и часто даже засыпали по другим более отдаленным углам… Вообще замечу, что делается гораздо легче, когда хозяйка дома, болгарка или гречанка, уйдет из комнаты и оставит вас одного с деловым и умным своим мужем.







