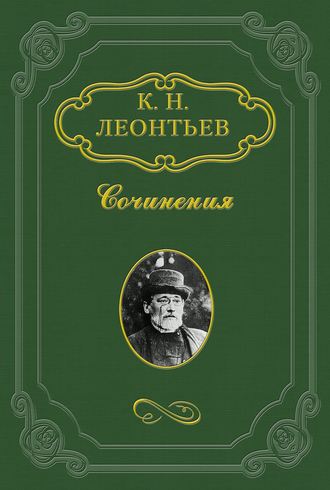
Константин Николаевич Леонтьев
Мои воспоминания о Фракии
Около того же времени, как г. Доско велел плотникам подвысить себе стасидию в соборе, приехал и г. Тиссо, французский консул. Я его видел мельком в Константинополе и говорил с ним; он показался мне человеком благовоспитанным и очень тонким.
Его хвалили многие; даже друзья Ступина отдавали справедливость его личной порядочности. Он явился, говорят, к Ступину с визитом щеголем, в свежих перчатках. «А бедный мсьё Ступин (рассказывали мне с каким-то радостным смехом единоверцы) принял его в своем военном ямурлыке»… Вероятно, это было серое, обыкновенного военного покроя пальто или шинель вроде солдатской. Ямур – значит дождь по-турецки, ямурлык – одежда от дождя. О чем говорили Тиссо и Ступин, я не знаю; но это и не важно. Дело в том, что в городе составилась против Ступина коалиция; союзниками были: местная турецкая власть, французский консул, все местные почетные консулы, из католических купцов Бадетти и Вернацца, о которых я уже не раз упоминал, и греческий консул Доско. Блонта, кажется, тогда еще не было.
Должно быть в это самое время французский посол получил от г. Тиссо донесение, в котором Ступин был изображен в самом глупом виде и вместе с тем человеком вредным (конечно для Франции, для Европы). Он будто бы, говорилось в донесении, после завтрака всегда уже пьян и в странной одежде ходит или ездит по городу и воюет… «Русское консульство больше похоже на казарму, чем на консульство»… В этом роде.
В одежде Ступина ничего не было особенно странного: в холодное время, зимой, он носил верно одну из тех боярок, которые носят у нас в России давно уже; может быть запросто, не с официальным визитом, ходил иногда в поддевке или в том полувоенном ямурлыке, в котором он принял г. Тиссо. Почему же мы по зимним дням, когда и в Турции бывает холодно, должны носить непременно этот цилиндр, который верно был на Тиссо; почему не ходить запросто в русской поддевке?
В посольстве нашли, что это все не по-европейски, que се n'est pas il comme il faut: «Вообразите, – говорили, – Ступин дерется там». Кроме того, взведены были на Ступина обвинения в злоупотреблениях, какие он будто бы допускал.
Как бы то ни было, вскоре после всего этого прислан был в Адрианополь секретарь посольства, чтобы отстранить Ступина от должности.
Униженный так всенародно, Ступин собрал кое-какие деньги и уехал в Петербург.
Все друзья России, самые умеренные христианские старшины, множество православных людей простого звания, даже иные турки с глубоким сожалением провожали его… Многие давали ему денег взаймы на эту поездку в Петербург.
Враги, особенно местные католические буржуа, ликовали, кричали по всему городу, будто посланник велел заковать Ступина и верного драгомана его Манолаки Сакелларио в цепи и в этом виде отправить в Петербург на суд и расправу.
В Петербурге, впрочем, Ступин был оправдан и награжден.
Ему очень хотелось вернуться с торжеством в Адрианополь; но этого утешения он не дождался и был назначен генеральным консулом в Персию. Там он умер в 1866 году внезапно от холеры.
Кто-то из семейных его поспешил сообщить эту печальную весть его верным адрианопольским друзьям и почитателям, которые тотчас же пришли ко мне с просьбой сказать, если можно, в память его какую-нибудь речь на греческом языке во время заупокойной обедни, которую они закажут за городом, в построенной им Демердешской сельской церкви…
Я согласился.
Я написал речь по-французски, а драгоман Манолаки Сакелларио перевел ее по-гречески. Конечно, я хвалил Ступина точно в том же духе, в каком хвалю и здесь. Говорил, между прочим, что хотя Фракия страна и смешанная, но для русского агента нет на Востоке ни сербов, ни греков, ни валахов, ни болгар… есть только православные.
Католиков местных я, конечно, не называл прямо, а говорил о жалких врагах наших, кричащих бессильно на нас и т. д. О турецких властях отзывался я почтительно и говорил, что Ступин оттого и успевал делать столько добра местным христианам, что, снискивая расположение мусульман, он видел от них всякого рода уступки.
Заупокойную обедню служил в селе Демердеше сам адрианопольский митрополит Кирилл (грек), но в церкви, кроме болгар демердешских и избранных адрианопольских друзей Ступина (и русского консульства вообще), не было никого лишнего. Все остались довольны; один только грек, брат нашего драгомана, Костаки Сакелларио, продавец галантерейных товаров и яростный приверженец «великой эллинской идеи» распространения Греции до Балкан, остался недоволен. Он говорил, что вся моя речь направлена против эллинизма. Не мог же я в самом деле уверять хоть бы этих самых демердешских мужиков, которые тут же молились за душу Ступина в своих шапках на полубритых головах, что они эллины!..
Через несколько дней после этого вернулся Золотарев и принял от меня консульство. У меня было тогда готово черновое донесение о панихиде по Ступине и о прекрасной памяти, которую оставила в Адрианополе его деятельность; при донесении был приложен русский перевод моей греческой речи.
Золотарев прочел и донесение, и речь. Донесение исправил по-своему, сократил, сделал его менее хвалебным, несколько охладил тон, переписал сам набело и отправил от своего имени в Константинополь. Что касается речи моей, то он возвратил мне ее, говоря: «лучше не посылать ее. Вы прекрасно сделали, что здесь сказали ее, но в посольстве многие Ступина не любят и будут вами недовольны».
Через месяц я сам был в отпуску в Царьграде, а Золотарев остался в Адрианополе пока один, без секретаря. Надо было и мне отдохнуть после двухлетних почти беспрерывных трудов… Я сидел раз в канцелярии посольства и спорил с одним из влиятельных при посольстве лиц. Тот нападал на Золотарева, а я защищал своего молодого консула.
– Вот вам пример его необразованности и бестактности, – воскликнул мой собеседник, – его последнее донесение о Ступине… Хвалить какого-то Держиморду, который сокрушал всем зубы, чтобы доказать величие матушки-России!
Я засмеялся и сказал:
– Бестактный и необразованный человек этот я! Нельзя иногда не сокрушать зубы…
Я рассказал тогда всю историю донесения; сказал даже прямо, что говорил и речь в церкви и нахожу, что сделал прекрасно.
Собеседнику моему на это нечего было возразить; меня он не только глупым и необразованным не считал, но, напротив того, как нарочно дня за два пред этим он говорил мне: «Хорошо бы, если бы все консулы у нас были такие, как вы: люди привычные к умственному труду и научно образованные»…
И тотчас же, входя в роль чиновника посольства, заметил мне не без внушительной вежливости:
– Я, кажется, старался объяснить вам, Константин Николаевич, что когда делают надпись в углу, внизу официальных писем, то ставятся два этцетера, а три ставятся только в случае письма к особам царской крови.
Надо заметить, что между посольскими чиновниками и консулами постоянно замечается тот род антагонизма, какой бывает в армиях между штабными и командирами отдельных действующих частей: полков, рот и т. п. Антагонизм этот вполне естествен и есть неизбежное следствие разницы в положениях; впечатления окружающей среды совершенно иные. Консулы соприкасаются прямо с народом; секретари посольств ни с кем не имеют дела, кроме министров той державы, при которой аккредитован их начальник; когда секретарь идет по столице, его никто не замечает и не знает; когда консул идет по улице провинциального города, часовые турецкие отдают ему честь; многое множество людей в городе его знает в лицо и здоровается с ним; если его толкнут нарочно или оскорбят иначе как-нибудь, весь народ смотрит, тревожится и хочет знать, что он теперь сделает, смел ли он сам, или не слаба ли стала держава, которую он представляет в городе…
Секретари трудятся при посольствах иногда очень много, нередко гораздо больше консулов; но у секретарей реже затрагиваются те живые струны патриотизма, которые связаны, по самому существу вещей, с личным самолюбием нашим; секретари индифферентнее и, надо правду сказать, часто благоразумнее консулов; консулы имеют свои пороки; и нельзя не сознаться, что положение их таково, что они слишком расположены «лезть на стену» и затруднять своими требованиями и жалобами посольство. Не раз случалось, что посольский чиновник, получив независимый пост, невольно возвышал свой тон и начинал «поклоняться тому», что он «сжигал» в столице так небрежно, насмешливо и мило. Когда же, наоборот, слишком пылкий консул получал место в Константинополе, то он невольно отрезвлялся и стыл…
И Ступина можно было бы конфиденциально попросить понизить свой тон, если в то время все эти Лавалетты и Тувенели были нам уже так нужны. Но едва ли требовалось унижать этого способного и смелого русского деятеля.







