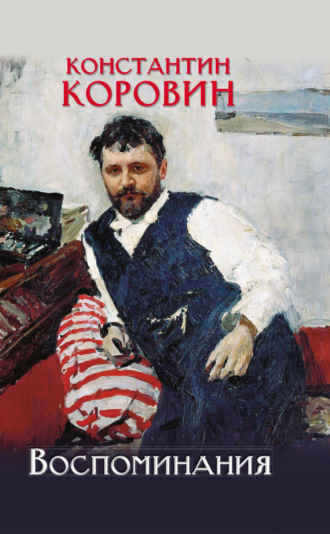
Константин Коровин
Воспоминания
Поленов
I
Академик живописи Василий Дмитриевич Поленов окончил С.-Петербургский университет по историко-филологическому факультету. Одновременно учился живописи в Академии художеств в Петербурге и окончил Академию художеств совместно с Репиным. За программную работу «Воскрешение Христом дочери Иаира» тот и другой получили поездку за границу для усовершенствования в искусстве.
Перед окончанием московского Училища живописи и ваяния мы, пейзажисты, узнали, что к нам вступит профессором Поленов. На передвижной выставке был его пейзаж: желтый песочный бугор, отраженный в воде реки в солнечный день летом. На первом плане большие кусты ольхи, синие тени, и среди ольхи наполовину ушедший в воду старый гнилой помост, блещущий на солнце. На нем сидят лягушки.
Какие свежие, радостные краски и солнце! Густая живопись.
Я и Левитан были поражены этой картиной. Я тоже видел синие тени, но боялся их брать: все находили, что слишком ярко.
Мы с нетерпением ждали появления Поленова в школе. Натурный класс, ученики все в сборе. Он пришел. В лице его и манерах, во всем облике было что-то общее с Тургеневым. Он принес с собой сверток, из которого вынул старую восточную материю и белый лошадиный череп. Тщательно прибил материю к подставке, где ранее помещался натурщик, и повесил на фоне материи лошадиную голову.
Мы, ученики, поставили мольберты и заняли места.
– Я вам поставил натюрморт, – сказал Поленов. – Вы будете его писать после живой натуры.
И ушел.
Половина учеников недоумевали. Говорили – в чем дело? Живая натура лучше, потом – почему череп лошади? Голову человека писать труднее, это ерунда, и прочее. Осталось в классе учеников менее половины: писать натюрморт было не обязательно, потому многие и ушли.
Я спросил Левитана, будет ли он писать.
– Да, пожалуй, – согласился он.
Я и рядом со мной Александр Головин начали писать череп.
Через два дня пришел Поленов и сказал ученикам, что отношения красок они берут не те.
– У вас нет того разнообразия, как в натуре. Отношение неверно.
Я в первый раз услышал об отношении красок.
Поленов подошел ко мне, сел на мое место, посмотрел работу и сказал:
– Вы колорист. Я недавно приехал из Палестины и хотел бы вам показать свои этюды.
Я сказал, что я очень рад.
Он вынул из кармана маленький бумажник, достал визитную карточку и подал ее мне, а также записал мой адрес.
«А Поленов какой-то другой», – подумал я.
* * *
В большом особняке дома, у сада, куда я пришел, Поленов показывал мне свои этюды Палестины. Они были разнообразны. От самых маленьких, не более вершка, до больших. Они были колоритны, талантливы. Генисаретское озеро, храм Соломона, часовня Гроба Господня и много других.
– Я начинаю большую картину, – сказал он мне, – «Христос и грешница». У меня к вам просьба. В свободное время вы немножко попозируйте мне, полчаса. Я с вас немного попишу. Мне нужно.
У Поленова в большой комнате-мастерской было особенно нарядно. Висели старые восточные материи, какие-то особенные кувшины, оружие, костюмы. Все это он привез с Востока. Это все было так непохоже на нашу бедность. И когда я вернулся домой, контраст с моей комнатой в Сущеве был велик и резок. Я вспомнил Саврасова. Как эти люди были разны!..
Поленов был хорошо одет, по-европейски, а я… В наше училище нельзя было прийти в крахмальной рубашке или повязать себе галстук. Это было нарушение каких-то особых традиций. Когда Левитан надел белый галстук, Евграф Семенович [Сорокин] сказал ему:
– Ты что, на свадьбу нарядился? Сними, а то попадет!..
* * *
Поленов в классе показывал нам фотографии художника Фортуни, испанца – он был в то время в славе – и говорил:
– Вот Фортуни, отличный художник, пишет мозаикой, один за другим отдельно накладывая мазки, разные – по тону и цвету.
Действительно, Фортуни хорошо рисовал. Но почему-то я, смотря на фотографии его живописи, думал: «Какое внимание и ловкость, но не трогает меня, не увлекает». Я сказал это Поленову. Тот удивился.
– Вы импрессионист? Вы знаете их?
– Нет, – ответил я. – Не знаю ни одного.
Поленов был потому в недоумении, что совершенно так же ему ответил и Левитан. Тогда он стал говорить нам об импрессионистах.
* * *
Как-то Поленов пригласил меня к Савве Ивановичу Мамонтову.
За вечерним чаем, где были Васнецов, Поленов, Репин, я увидел впервые Мамонтова – особенного человека. Он был веселый, простой.
– Пойдемте в мастерскую, – предложил Савва Иванович. – Я вам покажу портрет одного испанского художника. Вот Илья Ефимыч видел и говорил, что испанцы – молодцы в живописи: все пишут ярко, колоритно.
Смотрю, а в мастерской на мольберте стоит мой этюд – голова женщины в голубой шляпе на фоне листьев сада, освещенных солнцем. Этот этюд взял у меня раньше Поленов.
– Да, – сказал Репин, посмотрев мой этюд. – Испанец! Это видно. Смело, сочно пишет. Прекрасно. Но только это живопись для живописи. Испанец, правда, с темпераментом…
Савва Иванович смеялся, смотря на меня, потом сказал:
– Но, послушай, а если это не испанец, а русский, тогда как?
– Как русский? Нет, это не русский…
– Вот он, испанец! – сказал Савва Иванович, указывая на меня. – Чего вам еще? Тоже брюнет, чем не испанец?..
И Савва Иванович, обняв меня, захохотал.
Васнецов, подойдя, сказал:
– Разыграл нас Савва. Нет, это правда написали вы?
– Да, – говорю, – это я.
– А вот, представь, – сказал Поленов. – Поставил я этот этюд на выставку Общества поощрения художеств, и все были против. Не приняли его.
* * *
При вступлении Поленова в училище, как я уже сказал, среди учеников и преподавателей появились какие-то особые настроения. Ученики из натурного класса Перова, Владимира Маковского, Прянишникова, Е. С. Сорокина, то есть «жанристы», не работали у Поленова – и нас, пейзажистов, было мало. Жанристы говорили, улыбаясь, что пейзаж – это вообще вздор: дерево пишут, можно ветку то туда, то сюда повернуть, куда хочешь, все сойдет. А вот глаз в голове человека нужно на место поставить. Это труднее. А колорит – это неважно, и черным можно создать художественное произведение. Колорит – это для услаждения праздных глаз. Пейзаж сюжета не имеет. Всякий дурак может писать пейзаж. А жанра без идеи быть не может. Пейзаж – это так, тра-ля-ля. А жанр требует мысли.
Между учениками и преподавателями вышел раздор. К Поленову проявлялась враждебность, а кстати, и к нам: к Левитану, Головину, ко мне и другим пейзажистам. Чудесные картины Поленова – «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Старая мельница», «Зима» – обходили молчанием на передвижных выставках. «Гвоздем» выставок был Репин – более понятный ученикам.
Ученики спорили, жанристы говорили: «Важно, что писать», а мы отвечали: «Нет, важно, как писать». Но большинство было на стороне «что писать»: нужны были картины «с оттенком гражданской скорби». Если на заданных эскизах изображался священник, то обязательно толстый, а дьякон – пьяный. Дьякон сидит у окошка и пьет водку. Картина называлась «Не дело».
Другое полотно: художник, писавший картину зимой, упал и замерз, палитра вывалилась у него из рук. Это полотно написал Яковлев и назвал «Вот до чего дошло!». Человек с достатком изображался в непривлекательном виде. Купец почитался мошенником, чиновник – взяточником, писатель – умнейшим, а арестант – страдальцем за правду.
Среди молодых художников выделялся Рябушкин, который написал небольшую картину «Чаепитие». Эта замечательная вещь была полна бытовой прелести и в то же время некой подлинной, неумышленной жути, какая и была в России. Написал как художник, не задумываясь о сюжете. Но на нее никто не обратил внимания. А спустя долгое время она поразила всех…
Ученики были юноши без радости. Сюжеты, идеи, поучения отягощали их головы. Прекрасную жизнь в юности не видели. Им хотелось все исправлять, направлять, влиять. И спорить, спорить без конца.
* * *
Поленов участвовал на экзаменах по искусству с равным правом голоса, как и преподаватели-жанристы. Но с этим не могли примириться: пейзаж – несерьезное искусство, пейзажист не может быть судьей рисунка. Поэтому было изменено положение об окончании курса учеников. Пейзаж не мог быть программной задачей для окончания, и первый пострадал от этого Светославский. За его большой пейзаж-картину ему не дали звание классного художника.
И мы все – Левитан, Светославский, Головин и я – окончили школу со званием неклассных художников.
Поленов мне сказал однажды:
– Трудно и странно, что нет у нас понимания свободного художества…
И ушел из училища в отставку.
II
По выходе из Училища живописи, ваяния и зодчества в Москве Поленов писал свою большую картину «Христос и грешница» и для собирания материалов для картины еще раз ездил в Палестину.
Он несколько раз показывал мне картину во время работы. Я как-то не совсем понимал, почему такой замечательный художник русского пейзажа, природы русской, так увлекался сюжетом давней истории и делает огромную картину на евангельскую тему. Мне кажется, потому, что принято было в это время писать большие картины. Василий Иванович Суриков, прекрасный художник, писал всегда на исторические темы, иных картин он не признавал. Его большие картины «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове» писались годами, и до окончания работы Суриков никогда никому их не показывал, тщательно оберегая, даже не говоря никому, что пишет.
В этом была какая-то особенность, чисто бытовая, и все, кто писал картины для передвижной выставки, никогда не показывали их во время работы. Картина появлялась на выставке неожиданно. Об этом все говорили и писали газеты, и такая картина составляла гвоздь выставки. Мне казалось, что и Поленов писал такой «гвоздь» под влиянием этого.
Василий Дмитриевич показывал мне свою картину, как я уже сказал ранее, неоднократно, и хотел узнать мое мнение. Он подружился со мной и как-то раз летом пригласил меня поехать с ним под Алексино на Оку, посмотреть место, где он хотел построить себе дом, чтобы жить в нем и лето, и зиму, жить в природе. По дороге на пароходе до Алексина Поленов рассказал мне про свою жизнь за границей и про свои замыслы в живописи. О том, что он хочет написать целый цикл картин из жизни Христа Спасителя.
За обедом на пароходе он налил мне и себе по рюмке портвейна и сказал:
– Вот прошу вас, тебя, будь со мной на «ты».
– Василий Дмитриевич, я счастлив быть с вами на «ты», но вы мой учитель, и я прошу вас говорить мне «ты», так как вы старше меня и это будет красиво…
– Ну хорошо, – согласился Поленов. – Вот что, Константин, – сказал он, – прошу тебя серьезно, скажи мне правду – что, тебе нравится моя большая картина «Христос и грешница»? Скажи искренно, что в ней тебе кажется не так.
– Вот что, Василий Дмитриевич, мне все равно, что там действие, момент сцены и что женщина испуганно смотрит на Христа, который решит ее участь – убьют ее камнями или нет. Но в картине есть пейзаж, написанный по этюдам, как бы с натуры. В нем есть солнце страны. Но ваши картины и этюды с натуры русской природы мне больше нравятся. Ваша картина, вернее, ее тема, заставляет, так сказать, анализировать вопросы жизни, тогда как искусство живописи имеет одну цель – восхищение красотой.
Поленов пристально смотрел на меня.
– Возможно, ты прав. Я как-то не думал об этом.
Спустя месяца три в мою мастерскую, которая была в Москве, на Садовой улице, в доме Арцыбушева, пришел Поленов и очень серьезно сказал:
– Я к тебе по делу. Вот что. Прощу тебя, не можешь ли ты дать мне возможность здесь у тебя в мастерской работать с натуры? Ну модель – мужчину или женщину, все равно. Но только давай мне уроки. Я мешаю краски несколько приторно и условно. Прошу тебя – помоги мне отстать от этого.
«Что такое?» – подумал я.
– Хорошо, – отвечаю, – только лучше, конечно, писать тело.
Поленов писал в моей мастерской натурщика-старика, и я тоже. И я помню, что всегда старался искать верные контрасты красок. Поленов мне помог обратить на это более глубокое внимание. И не он, а я все больше постигал тайну цвета…
– А верно… – один раз сказал Поленов, – хитра и таинственна натура в красках. Как жаль, что ты все пишешь декорации в театре, жаль, что твоя живопись, для которой ты не имеешь времени, редко появляется на выставках.
– Мою живопись, – ответил я Поленову, – как-то мало понимают, да и кому она нужна? А декорации я так же пишу, как и всё, и думаю, что это такое же чистое искусство. И я рад этому.
– Да, – сказал Поленов, – тебе начинают подражать. Чуть не каждый день я читаю газеты и всегда вижу, что тебя ругают. Как это странно. В чем дело? Почему твоя живопись волнует? Я понять не могу. У меня в доме сестра, жена – они жалеют, что ты пишешь декорации и, представь, всё спорят о живописи. Не сюжеты волнуют их, а именно сама живопись. Странно.
* * *
Вскоре ко мне приехал из Парижа мой приятель, художник Цорн, и остановился у меня. Поленов познакомился у меня с Цорном. В то время Цорн был в славе. Мы поехали вместе обедать к Мамонтову. Когда за обедом подали уху из стерляди – кусок большой рыбы лежал в тарелке, в прозрачной ухе, – Цорн смотрел и не ел. Он испугался, побледнел и спросил Поленова, который сидел рядом с ним:
– Что, не змея ли это?
Как мы ни уговаривали его, что это рыба, Цорн не ел.
Тут же за столом сидел огромного роста итальянец, тенор Таманьо. Он услыхал про змею и тоже испугался и сказал:
– Остия! Это невозможно…
Как мы ни уговаривали, брали все в ложку кусок стерляди, показывали – «вот видите!» – и клали в рот рыбу, ни Цорн, ни Таманьо есть не могли.
* * *
В Третьяковской галерее Цорн долго смотрел картины, особенно Сурикова, и сказал мне, что он поражен и восхищен этим собранием живописи.
– Я вижу особенность и силу собранных произведений, в них есть чисто русские свойства.
Поленов показывал ему свою картину «Христос и грешница». Но Цорн смотрел на висевший рядом на стене большой этюд, написанный Поленовым с натуры: «Зима в Олонецкой губернии» (откуда он родом) – деревенские избы на фоне высокого леса.
– Как это прекрасно, – сказал Цорн.
– Это потому, – ответил я, – что похоже на Швецию, на вашу родину.
– Нет, – ответил Цорн. – Тут дивные краски…
* * *
Цорн, я и Поленов были приглашены на вечер к князю Владимиру Михайловичу Голицыну. Кажется, он был в это время губернатором Москвы. Князь сам приехал и пригласил Цорна и нас. Его жена, Софья Николаевна Голицына, рисовала и писала красками.
Народу на вечере было много, много дам света. Приехали посмотреть знаменитого художника-иностранца. За большим круглым столом расположились гости за чаем.
– Теперь такая живопись пошла, – говорила одна дама. – Ужас! Всё мазками и мазками, понять ничего нельзя. Ужасно. Я видела недавно в Петербурге выставку. Говорили, это импрессионисты. Нарисован стог сена, и, представьте, синий. Невозможно, ужасно. У нас сено, и, я думаю, везде – зеленое, не правда ли? А у него синее! И мазками, мазками. Знаменитый, говорят, художник-импрессионист, француз. Это ужас что такое! Вы вот хорошо, что не импрессионист, надеюсь, у нас их нет, и слава богу.
Я смотрю – Цорн как-то мигает.
– Да. Но и Веласкес – импрессионист, сударыня, – сказал он.
– Неужели? – удивились дамы.
– Да, и он (Цорн показал на меня) – импрессионист.
– Да что вы! Неужели?! – вновь изумились дамы. – А портрет Софи написал так гладко!..
Дорогой до дому Цорн спрашивал меня:
– Это высший свет? Это высший свет?
– Да, – говорю я.
– Как странно…
Цорн молчал. А на другой день утром собрал свои чемоданы и уехал к себе, в Швецию.
* * *
С большим чувством признательности я вспоминаю своих учителей живописи. Милого друга, Василия Дмитриевича Поленова. Какой скромной души был этот прекрасный художник! Как он любил нас, Левитана, меня и Шаляпина, для которого рисовал костюм Мефистофеля. Он говорил мне, что хочет написать земную жизнь Христа. «Ничто меня так не поражает, – говорил он, – как образ Спасителя».
– Говорят, Алексей Кондратьевич Саврасов умер, – сказал я как-то Поленову, – в Ростокине, под Москвой. Один. Это мне рассказал швейцар училища Плаксин. Он был на похоронах, и был Павел Михайлович Третьяков, больше никого. Говорят, что его покровителем был какой-то человек, который давал ему холсты, краски, кисти и ставил водку. И он писал бесконечно какие-то картины.
– Прекрасный художник был, – ответил Поленов. – Я познакомился с ним и говорил, но он как-то застенчиво отклонялся, и видно было, что он был болен. В огромной России – Академия художеств, московская Школа живописи, киевская, одесская. А как мало художников. И какая трудная жизнь их… А знаешь ли, должно быть, это секрет жизни. Поэт, писатель, художник… Их забывают. Как ненастоящих. Гаснет и умирает много энергии, которая восхищала, потом делается дешевой. Кажется, не только у нас, нигде не бывает много истинных артистов.
* * *
Три года назад я получил письмо здесь, в Париже, что умер Василий Дмитриевич Поленов. Письмо было от его жены, Наталии Васильевны. Она трогательно написала мне, что Василий Дмитриевич, умирая от старости, был в полном сознании. «За два дня до смерти, – писала жена, – он сказал мне: "Достань этюд Константина, речку в Жуковке. И повесь здесь, передо мной, на стене. Я буду смотреть. А если умру, напиши ему в Париж поклон, скажи, что увидимся, может быть, опять на этой речке"…»
Левитан
Наша юность
Мне пятнадцать лет. На экзамене рисования, в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве на Мясницкой, я получил похвалу от преподавателей с правом выбрать себе профессора и поступить к нему в мастерскую. Пришел домой и говорю матери:
– Вот какая история: если я поступлю к Сорокину, там у него все иконы пишут, а у Перова – жанр; вот приятель брата, Яковлев, пишет такие страшные картины – замерзший художник, градобой, волки едят женщину, грабитель… А мне бы хотелось к Алексею Кондратьевичу Саврасову. Я только издали его видел. Это он написал «Грачи прилетели». Он такой большой, и у него добрые глаза. Мама, – говорю я, – я не хочу быть архитектором, это так скучно. Пойду к Саврасову. Ты не сердись.
– Как хочешь, учись, у кого вздумаешь, – ответила мать просто.
Долго в эту ночь я не мог заснуть. Все думал – что я буду писать. Надо что-нибудь грустное – деревню, ночь. Деревня спит, один огонек в избе. Это там, где я жил с отцом и матерью. Светит месяц, и воет собака. Это собака моя осталась там, Ленька и Булычев кормят ли ее – я не знаю. Как она меня любит! Когда приеду – ждет. Как рада она, когда приеду! А я ее ударил еще за утку – зачем не принесла. Хорошая собака. Зачем я ее ударил? Там, может быть, она голодная и бьют ее. А Саврасов, какой печальный – глаза добрые, он все поймет. Мама, должно быть, думает – зачем я архитектором не хочу быть. Ну, хорошо, я архитектором кончу курс. Но все же мне живопись больше нравится. Архитектура – это совсем не трудно.
Ночь я провел в тревоге, пошел утром в училище повидать профессора Саврасова. Свернув в трубочки этюды, которые писал летом из окна моей комнаты в Москве – сараи, забор, ветви деревьев, – пошел по Мясницкой в училище. Пройдя верхний этаж большого здания, где были мастерские, остановился у двери. Написано: «Мастерская профессора Саврасова». Несмотря на ранний час, за дверью бренчала гитара и было слышно – кто-то пел.
Я постучался. Гитара умолкла, и оттуда крикнули: «Иди!»
Я вошел и увидел освещенную комнату с большими окнами, у которых стояли картины на мольбертах, а слева в углу высоко наставлены были березовые дрова. Около них сидел на полу Сергей Светославский – художник, ученик Саврасова. В руках у него была гитара. Против, на полу, лежал юноша с большими кудрями – Исаак Левитан. Поодаль, на железной печке, сторож мастерской солдат Плаксин кипятил в железном чайнике чай.
Светославского и Левитана я видел раньше у брата моего Сергея. Это были его приятели. Светославский взял с печки завернутую в бумагу колбасу, нарезал ее, положил ломтиками на пеклеванный хлеб, дал Левитану, а также и мне, сказав: «Ешь».
– Это брат Сережи, – сказал он Левитану, показав на меня.
Налив в стаканы чаю, он сел на табурет и начал петь, аккомпанируя себе на гитаре. Тем временем Левитан надел сапоги и, встав, умывался в углу. Плаксин лил ему воду из ковшика. Вытираясь полотенцем, он смотрел на меня своими красивыми карими глазами, а потом спросил:
– Костя, ты тоже сюда хочешь в мастерскую поступить?
– Да, – ответил я.
– И не боишься?
Я не понял и спросил:
– А что?
– А то, что мы никому не нужны. Вот что. – И, обернувшись к Светославскому, сказал: – Я видел этюды его. Он совсем другой, ни на кого не похож.
– Ты архитектор, – сказал мне Светославский. – Мне говорил Сережа про тебя…
– Да, я буду потом архитектором. Но мне не так нравятся город, дома. Природа лучше. Я охотник.
– Виют витры, виют буйны, аж деревья гнутся, – снова запел Светославский.
В мастерскую вошли ученики Саврасова: Мельников, такой одутловатый, небольшого роста, сын писателя Андрея Печерского; высокий Несслер; маленький Поярков, Комаровский, Ордынский <…>
Левитан повел меня к своей картине. Она изображала колеи снежной дороги, которая поворачивала в большой сосновый лес. Вечер, сосны освещало заходящее солнце.
– Последний луч, – сказал мне Левитан. – Что делается в лесу, какая печаль! Этот мотив очень трудно передать. Пойдем со мною сегодня в Сокольники. Там увидишь, как хороши последние лучи.
– Пойдемте, – согласился я, – только вот в Мытищах лучше лес – Лосиный остров. Пойдемте туда.
– Это далеко, а здесь дойдем пешком. Только надо взять немного копченой колбасы и пеклеванный.
– Непременно, – соглашаюсь я, обрадованный, что со мной говорит старший, а сам думаю: «Есть ли у мамы деньги, а вдруг нет. Вот те и колбаса!..»
Отворилась дверь, и в мастерскую вошел огромного роста человек в башлыке с палкой. Он хлопал большими озябшими руками, согревая их. Вынул из пальто платок и стал вытирать себе замерзшие усы и бороду; улыбаясь, смотрел на нас добрыми глазами. Это был Саврасов.
– Да, да, – сказал он, как бы причмокивая, – зима. Как сады покрылись инеем! У меня в Печатниках – там из окна видно забор и около бузина, тоже в инее мороза, колодец заледенел, какие формы! Гм, гм! Надо смотреть, наблюдать: кто влюблен в природу – будет художник.
И, сняв пальто и боты, он посмотрел на меня и сказал:
– Брат Сергея? Да, мне Ларион Михайлович Прянишников говорил про вас, он помнит вас таким (и он показал маленький рост) <…> Покажите-ка ваши этюды.
Саврасов сел на табурет. Я развернул написанные на бумаге и холсте этюды с натуры и клал их на пол перед ним. Все будущие мои товарищи столпились сзади. Я в ужасе смотрел на свои работы и думал – это не то, это не картины: ветви сирени, снег, сарай, конюшня – что это за картины? Все не то…
– Да, да, – сказал, причмокивая, Алексей Кондратьевич, – он другой. Влюблен в цвет. Ну а что вы скажете? – обратился он к окружающим ученикам.
– Весело, – сказал Левитан.
– Композиции нет, картины нет, – заметил Несслер.
– Что за охота писать заборы? – грустно вставил Поярков. – Это не пейзаж.
– Ну, отчего? Если он хочет. Только забор очень трудно написать, – смеясь, сказал Левитан. – Но тон у него есть. Правда – в цвете.
– Классический, романтический пейзаж уходит, умирает – Пуссен, Калам, – сказал Саврасов. – Может быть, будет другой. Гм, гм, да, да – неоромантика. Художники и певцы будут всегда воспевать красоту природы. Вот Исаак Левитан, он любит тайную печаль, настроение.
– Мотив, – вставил Левитан. – Я бы хотел выразить грусть, она разлита в природе. Это какой-то укор нам. А он – жест в мою сторону – ищет веселья.
– Красок, – сказал Саврасов.
– Какое веселье в заборах? – удивлялся Поярков.
– Не в заборах, а в красках веселье, – сказал Саврасов.
Я думал про себя: мне просто нравится писать.
Саврасов принял меня в мастерскую.
* * *
Под Москвой, в Сокольниках, шла дорога, колеи в снегу заворачивали в лес. Потухала зимняя заря, и солнце розовым цветом клало яркие пятна на стволы больших сосен, бросая глубоко в лес синие тени.
– Смотри, – сказал Левитан.
Мы остановились. Посинели снега, и последние лучи солнца в темном лесу были таинственны. Была печаль в вечернем свете.
– Что с вами? – спросил я Левитана.
Он плакал и грязной тряпочкой вытирал у носа бегущие слезы.
– Я не могу – как это хорошо! Не смотрите на меня, Костя. Я не могу, не могу. Как это хорошо! Это – как музыка. Но какая грусть в лучах, в последних лучах! В чем эта грусть и зачем она?
Солнце зашло. Все кругом потухло. Синей мглой покрылся темный лес. Мы пошли обратно. Снег хрустел под ногами, и стало холодно, тоскливо. В деревянных домах пригорода светились окна. Приветливо и весело сияли фонари у трактира. У меня в кармане – кусок колбасы, пеклеванные хлебы и еще двадцать копеек.
– У меня двадцать копеек, – говорю я Левитану. – Есть еще колбаса и хлеб. Зайдем в трактир погреться.
В трактире было тепло, пахло чаем и сапогами. Ловко нес поднос кудрявый половой и живо поставил нам пару чая. Народу было много: извозчики, какой-то гармонист с подвязанной щекой, разносчики…
Выпив чай, мы обогрелись. Гармонист заиграл. Сидевшие за соседним столом купцы или артельщики в суконных поддевках сказали, глядя на нас:
– Бурса, по духовной части – ишь волосы большие, а по трактирам тоже. Из молодых, да ранние.
– Брось, Гаврюша, ишь, они красавчики какие, дворяне знать, – смеясь, поглядывая на нас, заметила купчиха в лисьей шубе.
– Пойдемте, – сказал Левитан, вставая. – Это отвратительно…
* * *
Левитан, придя ко мне, остался ночевать у нас. Мой брат Сергей постелил ему постель, положив матрац на соединенные стулья.
Ложась спать, Левитан не снял синюю суконную курточку, застегнутую до горла. Я видел, что у него не было рубашки. Я снял шерстяную блузу, и мне было неловко, что у меня есть рубашка.
– А что это висит у тебя на стене? Ружье? – спросил Левитан.
– Ружье и патронташ. Я охотник, – ответил я.
– Охотник… Это интересно должно быть. Я когда получу деньги за уроки, то куплю ружье и пойдем на охоту, да.
– Пойдемте, – обрадовался я. – Пойдемте в Перервы. Там убьем зайца.
– Зайца? – повторил Левитан испуганно. – Это невозможно, это преступление. Он хочет жить, он любит свой лес. Любит, наверное, иней, эти узоры зимы, где он прячется в пурге, в жути ночи. Он чувствует настроение, у него враги… Как трудно жить, и зачем это так?.. Я тоже заяц, – вдруг улыбнувшись, сказал Левитан, – и я восхищен лесом и почему-то хочу, чтобы и другие восхищались им так же, как и я. Эти последние лучи – печаль и тайная тоска души – особенная, как бы отрадная. Неужели этот обман и есть подлинное чувство жизни? Да, и жизнь, и смерть – обман. Зачем это, как странно.
Я проспал. Вижу, Левитан стоит у окна на двор, где деревья в морозном инее.
– Ты проснулся? – сказал он. – Посмотри, какой дворик! Как хорошо написать это. Говорят – нужно ехать в Италию, только в Италии можно стать художником. Но почему? Чем пальма лучше елки? Почему – не знаю. На вокзалах, в ресторане, на столах всегда жалкие пальмы. Как странно это.
И Левитан рассмеялся.
Левитан мало говорил о живописи, в противоположность всем другим. Он скучал, когда о ней говорили другие. Всякая живопись, которая делалась от себя, не с натуры, его не интересовала. Он не любил жанра. Увидев что-либо похожее на природу, он говорил: «Есть правда». Любимым нашим развлечением, учеников мастерской Саврасова, было уйти за город, в окрестности Москвы, где меньше людей.
Левитан всегда искал «мотива и настроения», у него что-то было от литературы – брошенная усадьба, заколоченные ставни, кладбище, потухающая грусть заката, одинокая изба у дороги, но он не подчеркивал в своей прекрасной живописи этой литературщины.
Левитан был поэт русской природы, он был проникнут любовью к ней, она поглощала всю его чуткую душу, и этюды его были восхитительны и тонки. Странно то, что он избегал в пейзаже человека. Прекрасный рисовальщик и живописец, он просил моего брата Сергея написать в его картине «Аллея осенью» фигуру сидящего на скамейке.
Левитан как-то сторонился людей. Его мало кто интересовал. Он подружился с Антоном Павловичем Чеховым, который присоединялся к нам на прогулках за город, еще будучи молодым студентом Московского университета.
Левитан был разочарованный человек, всегда грустный. Он жил как-то не совсем на земле, всегда поглощенный тайной поэзией русской природы. Говорил мне с печалью: «Художника не любят – он не нужен. Вот Саврасов, это великий художник – и что же? Я был у него в доме, его не любят и дома. Все против, он чужд даже своим. Писателя легче понять, чем художника. Мне говорят близкие – напиши дачи, платформу, едет поезд или цветы, Москву, а ты все пишешь серый день, осень, мелколесье, кому это надо? Это скучно, это – Россия, не Швейцария, какие тут пейзажи? Ой, я не могу говорить с ними. Я умру – ненавижу…»
Левитан часто впадал в меланхолию и часто плакал. Иногда он искал прочесть что-нибудь такое, что вызывало бы страдание и грусть. Уговаривал меня читать вместе. «Мы найдем настроение, это так хорошо, так грустно – душе так нужны слезы.»
Летом Левитан мог лежать на траве целый день и смотреть в высь неба. «Как странно все это и страшно, – говорил он мне, – и как хорошо небо, и никто не смотрит. Какая тайна мира – земля и небо! Нет конца, никто никогда не поймет этой тайны, как не поймут и смерть. А искусство – в нем есть что-то небесное – музыка».
Я разделял его созерцание, но не любил, когда он плакал.
– Довольно реветь, – говорил я ему.
– Константин, я не реву, я рыдаю, – отвечал он, сердясь на меня.
Но делался веселей.
Я любил солнце, радость жизни, цветы, раздолье лугов. И однажды у пригорка за городом, где внизу блестел ручей струей бегущей воды, расцвел шиповник: большие кусты его свежо и ярко горели на солнце, цветы розовели праздником радости весны.
– Исаак, – сказал я, – смотри, шиповник, давай поклонимся ему, помолимся.
И оба мы, еще мальчишки, встали на колени.
– Шиповник! – сказал Левитан, смеясь.
– Радостью славишь ты солнце, – сказал я. – Продолжай, Исаак…
– …и даришь нас красотой весны своей.
– Мы поклоняемся тебе.
Мы запутались в импровизации, оба кланялись шиповнику и, посмотрев друг на друга, расхохотались: «До чего глупо!»
* * *
Как-то ранней весной в школу на Мясницкую пришел какой-то простой человек, молодой румяный купец из Охотного ряда.
Зайдя к нам, в мастерскую Саврасова, спросил:
– Господа художники, хотелось бы мне купить этюдиков у вас, если цены подходящие будут. Люблю я этюды! Сам балуюсь красками, только от папаши своего берегусь. Ох! Очень он не любит это занятие, а я на чердак уйду, там я с этих этюдов картину разведу – да-с. Так люблю это дело, даже вот запах краски люблю!







