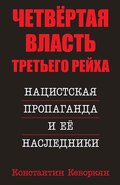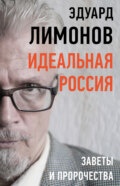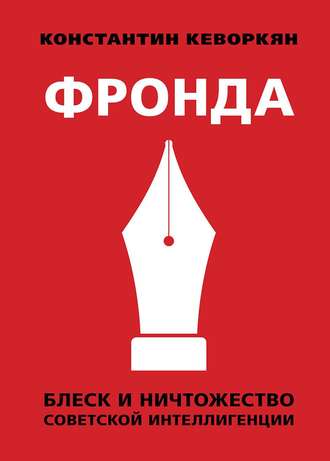
Константин Кеворкян
Фронда. Блеск и ничтожество советской интеллигенции
Результаты титанических усилий стали очевидны уже в ближайшее время, во время грянувшей войны с нацистской Германией. Ворвавшиеся на нашу землю захватчики с изумлением отмечали изменившийся облик страны: «Строительство и технические успехи русских никак не вписывались в наши представления о России. А там двадцати лет оказывалось достаточно, на что другие страны тратили столетия. Выполнялись пятилетние планы, проектировались новые заводы и фабрики. Всем этим русские занимались с фанатизмом и с чрезмерной затратой энергии и материалов… Люди формировались по воле времени, стали техниками, инженерами, квалифицированными рабочими, организаторами и в конечном итоге опытными командирами и рядовыми Красной Армии. Эти люди верили своей власти и подчинялись ей»[54].
Народы СССР вольно и невольно заплатили за индустриализацию колоссальную цену. И во многом она стала водоразделом, определившим дальнейшую судьбу страны. С одной стороны, мы видим грандиозный порыв, вдохновленный народной мифологией и многовековым желанием жить лучше в своей стране. С другой, приспособленчество, неуклонно пробуждающееся желание элиты безраздельно властвовать и владеть самому. На смену огромному социальному оптимизму, хотя и сопряженному с разгулом кровавой стихии и разнузданностью страстей, приходит горькое ощущение несбывшихся надежд, новой несвободы, тяжелого ярма государственного принуждения.
Разрыв между задуманным и построенным вызывал растущее раздражение людей. Человек, вышедший из лачуги, ощутил новые потребности. «Создав идеальное (воплощение) коммунизма – советскую культуру, наше общество оказалось впереди «реального социализма», в то время как его материальные отношения остались позади капитализма» (35). Инициированная сверху советская культурная революция взрастила массовую образованность и неизбежное повышение требований к социальным стандартам, что, в конце концов, стало катализатором взрыва.
IV
Великой трагедией для народа было то, что большевизм экстренно навязывал жесточайшую дисциплину вместо стимуляции внутреннего позыва к дисциплине. Но естественная скорость распространения идей не устраивала большевиков категорически. Дефицит времени они ощущали острее всего. Вместо планомерной осады шел всеобщий штурм. Русский крестьянин, выковырянный из привычного быта, толпами устремлялся в город, давая строю необходимые трудовые ресурсы для потрясающих свершений. Но упорно оставался самим собой в своих слабых и сильных сторонах. Удивительный народный типаж встречаем дневниках Ю. Нагибина, недоумевающего и – одновременно – восхищенного величием маленького человека: «Где-то между Раховым и Хустом (Закарпатье) увидел на перекрестье горных дорог плохонького мужичка в ватнике и стоптанных сапогах, пожилого, с пористым носом и ржаными выцветшими усами. Типичный такой рязано-владимирский обитатель. Был он, как полагается в предвечерний час русскому мастеровому человеку, под хмельком, шел по какому-то своему неважному делу и задержался, чтобы перекинуться словом со смуглым, цыганского вида парнем. Рядом румынская граница, кругом Карпатские горы, где обитают легконогие, сифилитические гуцулы, бандеровцы бродят, скрываются в каких-то щелях посланцы Ватикана – мировая кутерьма! А он стоит себе так простенько, будто на околице рязанской деревеньки, нисколько не удивленный ни странностью окружающего, ни тем, что его занесло в такую даль… Я впервые так остро и отчетливо ощутил этот жуткий и неотвратимый центробежный напор, эту распирающую энергию великого народа, которому надо и надо расширяться, хотя и своего простора хватает с избытком» (36).
Ну как тут не вспомнить Льва Толстого и его Платона Каратаева, русского крестьянина – одетого то в военную форму, то в рабочую спецовку – полного причудливых представлений о мире. Для большевиков заменить размытые, почти поэтические представления крестьянства научным материалистическим мировоззрением подразумевало возможность превратить новое государство в четко работающий современный механизм. Но не так-то легко донести вчерашнему пастуху значение микрона и заставить его с этим микроном дисциплинированно работать.
На протяжении рассматриваемой эпохи все учреждения государства – фабрики, мастерские, тюрьмы, школы, больницы, приюты или казармы, – какими бы ни были их декларируемые функции, выступали также и генераторами нового порядка; в этом заключалась их скрытая, но очень важная социальная функция.
Среди таких всепроникающих институтов два обладали решающим значением, что достигалось благодаря их огромной сфере охвата. То были промышленные фабрики, стремительно множащиеся в период индустриализации, и основанная на всеобщей воинской повинности Красная армия.
«Опролетаривание» основной массы населения государством горячо поддерживалось, поскольку давало рабочие руки для индустриализации, а во-вторых, режим, не доверяя зыбкости убеждений крестьянства и опираясь на марксистскую доктрину, стремился расширить пролетарскую социальную базу. М. Кольцов: «Пока мы живем в мелкокрестьянской стране, для капитализма в России есть более прочная база, чем для коммунизма. Это надо запомнить» (37). То есть самой системой подразумевались мероприятия в рамках социальной инженерии: переселение граждан в город, и их последующее приручение и идеологическая обработка. Да и жить простому человеку в городе было все-таки полегче, чем в деревне. В 1928 году агроном-стажер В. Медведев в письме М. Калинину из Тульской губернии: «Крестьяне очень завидуют жизни рабочих, их восьмичасовому рабочему дню. И впечатление в результате работы среди них получается такое, что дай им всем работу на фабрике, заводе, не задумываясь, бросят землю и уйдут» (38). Напомню, что это написано задолго до голода 1933 года и массового бегства из деревни в 1950-х и 1960-х годах. Д. Самойлов: «Можно сколько угодно говорить о труде-удовольствии, но тогда почему вся Россия от этого труда разбежалась? Говорят – разбежалась от колхозов, от великого перелома. Нет! Великий перелом, индустриализация открыли путь в город. А колхозы дали возможность отлынивать от тяжелого труда, от всей трудовой крестьянской поэзии» (39). Да и сегодня – много ли среди нас желающих жить при ненормируемом рабочем дне, без электричества, отопления и канализации? «Поедем в город, там хорошо, коммунальные услуги», – вместо бессмысленной «звезды с неба» И. Ильф в своих записных книжках дает приземленный вариант любовной мечты. В общем, крестьянство двинулось в города еще до голодных испытаний начала тридцатых годов. Они лишь ускорили процесс, который срочно пришлось тормозить введением института прописки и паспортизацией населения[55].
Ясно также, что новичкам усвоить городскую культурную среду обитания за короткое время было невозможно. Люди привозили свою привычки, свой образ жизни, и даже свою живность. Дело доходило до анекдотов. Так соседи М. Булгакова привезли из деревни петуха, который страшно раздражал писателя тем, что пел ночью без времени – жизнь в городе сбила петуха с толку. Миллионы человек, вырванных из прежней среды, не могли в городской суете удовлетворить насущные, пусть и неосознаваемые, потребности – хотя бы побыть в одиночестве у себя дома. Помните жильца в общежитии им. монаха Бертольда Шварца, который умолял окружающих: «Да дайте же человеку поспать!» Это постоянная и всеобщая неудовлетворенность окружающим миром – основание для острого недовольства, человеческой истерии и психоза, особый тип социального кризиса.
Хлынувший в город поток новых горожан вполне естественно раздражал и людей городской культуры. Неумение пользоваться коммунальных хозяйством, соблюдать правила общежития, попытка самоутвердиться, навязывая собственные представления о жизни – все это вызывало язвительность образованных горожан. Быстро выяснилось, что кроме кучки подвижников, фанатиков «культурной революции», поводыри свой народ не любят. Разумеется, речь идет не о публичных выступлениях, а об их дневниках, интимной переписке, беседах с друзьями. Возьмем добрейшего вроде бы, неоднократно нами цитировавшегося Корнея Ивановича Чуковского: «27 июня. В Сестрорецке. В пустой даче Емельяновой за рекой. (…) В курорте лечатся 500 рабочих – для них оборудованы ванны, прекрасная столовая (6 раз в день – лучшая еда), порядок идеальный, всюду в саду ящики для окурков, больные в полосатых казенных костюмах – сердце радуется: наконец-то и рабочие могут лечиться (у них около 200 слуг). Спустя некоторое время радость остывает: лица у большинства – тупые, злые. Они все же недовольны режимом. Им не нравится, что “пищи мало” (им дают вдвое больше калорий, чем сколько нужно нормальному человеку, но объем невелик); окурки они бросают не в ящики, а наземь и норовят удрать в пивную, куда им запрещено» (40). Он же: «Войтоловскому я очень обрадовался, т. к. он – 1) пошляк, 2) тупица. Мне нужен был именно такой читатель, представитель большинства современных читателей. Если он одобрит, все будет хорошо» (41).
Напомню, дело происходит во время «культурной революции», читают практически все. Итак, современные Чуковскому читатели – тупицы и пошляки. А писатели? Вот их описание от К. Чуковского: «Основная масса состояла из очень простодушных людей, вроде тех, что прежде заполняли галерку. Дремучие глаза, мясистые деревенские щеки. “Интеллигентных” лиц почти нет. Ни за что не скажешь, что писатели» (42). И даже щеки ему «деревенские»!
Другой гуманист – М. Пришвин: «Какой страшный край эта Великороссия! ведь только странные ученые-спортсмены могут интересоваться частушками: я не знаю, что может быть глупее этой девицы-куклы, выплевывающей подсолнухи и время от времени изрыгающей частушку» (43). О прочих глупых девицах М. Булгаков: «У нас новая домработница, девица лет 20-ти, похожая на глобус. С первых же дней обнаружилось, что она порочно по-крестьянски скупа и расчетлива, обладает дефектом речи и богатыми способностями по творческой части, считает излишним существование на свете домашних животных – собак и котов (“кормить их еще, чертей”)… сперва жена моя, затем я с опозданием догадались – девица оказалась трагически глупа» (44). То, что крестьянская расчетливость и скупость вовсе не от хорошей жизни как-то в голову писателю не приходит. Ладно, дальше – жена его, Елена Сергеевна: «12 июля. (37) Остановились на Арбатской площади, смотрели на проходивших физкультурников. Издали очень красивое зрелище – коричневые тела, яркие трусы. Вблизи – красивых лиц почти нет, и фигур тоже» (45).
Существует как бы две планеты – одна заселена интеллектуалами, другая – обслуживающими их «пролами».
Примеров ледяного презрения множество и в послевоенной литературе. В. Ерофеев отмечает в своих записных книжках: «Мне ненавистен «просто человек», т. е. ненавистен постоянно и глубоко, противен и в занятости и в досуге, в радости и в слезах, в привязанности и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его “простота” наконец…» (46). То, что это не эмоциональный всплеск, а гложущая мысль свидетельствует и особо отмеченная им в записных книжках мысль французского философа: «Де Местр: простолюдин глуп, груб, безнравственен и подл» (47). Ерофеев явно находит в этом созвучие со своими внутренними чувствами. Ю. Нагибин о народе: «…их неспособность слушать, темная убежденность в кромешных истинах, душевная стиснутость и непроветриваемость носят патологический характер» (48). Чувствуется прямо-таки физическая ненависть к простонародью, как и у Ерофеева. «Сукины сыны, – как говаривал незабвенный слесарь-интеллигент Виктор Михайлович Поле-сов. – Возомнили о себе! Хамы!»
Ничего удивительного нет – со времени мужиковствования графа Толстого прошло достаточно времени – народ успел показать себя и в революции, и в гонениях на интеллигенцию, и в нежелании постигать высокие истины самозваных учителей. Вот эту черту презрения к народу подмечал в своих дневниках кинорежиссер А. Довженко, человек, который народ тонко чувствовал, как и ощущал разницу между народом и его правителями: «Начинается разложение… Появляются шакалы, трусы, шкурники и мизерные флюгеры, партийные и беспартийные, которым никогда не было дела до народа, для которых народ существовал всегда как прислуга, как класс, как мужики (выделено мной – К.К.). Трусы забудут обо всем на свете и предъявят еще обвинения, почему так плохо велась война» (49). Так впоследствии и получилось.
Мы говорим о страданиях интеллигенции при Советской власти (при «сталинщине» или «застое») напрочь забывая время, в котором жили наши герои. И были ли они по-настоящему с народом? Современный публицист, стоящий явно на прокоммунистических позициях, вопрошает: «Чем занимались наши Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Булгаков – эти иконы “интеллектуальных” антисоветчиков?.. Они ни словом не поддержали усилий партии, правительства и государства по актуальнейшим, жизненно важным для народа и страны направлениям: резкому повышению образования, созданию широкой квалифицированной и технически вооруженной медицинской помощи, по заботе о детях, по созданию мощной самостоятельной промышленности, в том числе и в первую очередь военной, воспитанию советского или хотя бы русского патриотизма и т. п. Чем они помогли стране? На их, что ли, произведениях воспитывались молодогвардейцы и защитники Сталинграда?» (50) Вопросы резкие, полемические, но они имеют право быть.
Истинное непонимание эпохи скользит в последних словах М. Булгакова на смертном одре: «За что меня жали? Я хотел служить народу… Я никому не делал зла» (51). Но нуждались ли в Булгакове вчерашние «кухаркины дети» и те ли задачи перед ними стояли? В своих записках друг Булгакова, Евгений Петров бегло обрисовывает довоенную уличную сценку – пацаны на улице играют в волейбол: «Мальчики образовали кружок и кидали мяч… Перед соседним домом дожидались похоронные дроги. Вынесли гроб, выкрашенный масляной краской, под дуб. Дроги тронулись в свой обычный страшный путь. Сзади шла поникшая женщина. Ее поддерживали под руки… Дроги подъехали совсем близко, но мальчики продолжали играть. И только когда печальная черная лошадка коснулась мордой чьей-то спины, круг распался, по-прежнему не расставаясь с мячом. Никто даже не посмотрел на похороны… Такое комсомольское презрение к смерти не проходит даром. То были первые советские мальчики, которые сплошь полегли на войне» (52). С фронта не вернулся, как мы помним, и сам Е. Петров.
Поколение «первых советских мальчиков» не нуждалось в Булгакове и Ахматовой, их массовое почитание пришлось на другое поколение, другие вкусы, другие опасности. Даже враги вынуждено признавали качество воспитанного большевиками стального поколения. Эсэсовский ветеран Э. Керн в своих мемуарах мало хорошего пишет об СССР, но и он отдает должное неожиданному противнику: «Наши храбрые и опытные войска вполне могли разгромить военную машину России и уничтожить ее промышленный потенциал, но никто не удосужился предупредить о глубине политического и психологического зомбирования русских людей. Мы столкнулись с новой, незнакомой разновидностью человеческой породы – человеком советским. Доскональные знания произведений Достоевского и поэм Пушкина не могли нам помочь. Нам не попадались ни Анна Каренина Толстого, ни гоголевские типы из “Мертвых душ”. Этот мир покоился вместе с русскими офицерами, священниками и кулаками в массовых захоронениях ЧК, он умер в ходе кровавых экспериментов Ленина, которые продолжил “грузинский апостол” большевизма…» (53). К нашему счастью, именно это поколение «зомбированных» и «советских» спасло страну от начитанных эсэсовцев.
«ХУДОЖНИК ОПАСЕН, КОГДА ЖИВ», – вот так вот, заглавными литерами, говоря о В. Ерофееве, пафосно восклицает современный популярный писатель Е. Попов. Но вопрос не опасности, а нужности. Подруга Ерофеева Ольга Седакова отмечала в мировоззрении Венедикта важнейшую деталь: «Во всем совершенном и стремящемся к совершенству он подозревал бесчеловечность… – и, обращаю ваше внимание. – Еще непонятней для меня была другая сторона этого гуманизма: ненависть и к героям, и к подвигам. Чемпионом этой ненависти стала у него несчастная Зоя Космодемьянская… Он часто говорил не только о простительности, но и о нормальности и даже похвальности малодушия, о том, что человек не должен быть испытан крайними испытаниями» (53).
Поколение тридцатых было готово убивать и идти на смерть, и такое воспитание помогло отбиться от грандиозного нашествия. Булгаковский Мастер не был героем, он хотел, чтобы его просто не трогали, но страна как раз требовала иного – полной отдачи всех сил, нечеловеческого усилия. И они – как могли – его осуществили. Вина ли этих простых людей, крестьян и рабочих, что они не соответствовали как культу античных героев, которого требовала от них Советская власть, так и не дотягивали до уровня духовного идеала «а-ля Каратаев», чего сначала от них по привычке ждала интеллигенция? Они были такими, как они есть.
Мало кто из образованных снобов пытался осмыслить глубинную суть явлений, как это в одном из своих писем (9-10.07.1940 г.) делал И. Дунаевский, понять, почему красиво придуманный механизм дает сбои: «Беда в том, что мы воспитываем или пытаемся это воспитание внушить только с одной маленькой и внешней стороны, а нужно воспитывать всей системой культуры и бытия. Нельзя же не делать абортов, если отец зарабатывает 300 рублей в месяц и живет в комнате 10 метров с семьей в пять человек. А нам говорят – плодите детей. Нельзя проповедовать чистоту отношений, когда не очищена сама жизнь, когда быт загрязнен мучительными и тягостными мелочами, когда люди живут не по-человечески, одеваются не по-людски, работают из последних сил на хлеб насущный. В этой страшной серятине достигаются ничтожные, маленькие желания, маленькие мечтания маленьких, но невиновных людей. За пару заграничных чулок, за красивую жизнь, измеряемую одним ужином с паюсной икрой и бутылкой прокисшего рислинга в номере гостиницы “Москва” с командировочным пошляком, люди, женщины, иной раз честные, хорошие, расплачиваются своей честью, чтобы только на секунду забыть плесень на углах своего жилья» (55). Вот здесь чувствуется боль и глубина сопереживания, жаль – это всего лишь частное письмо.
Примеров отчуждения интеллигенции и народа, народа и власти – десятки; и, конечно, авторы процитированных строк имели на то право. Но не могу не вспомнить еще один раз К. Чуковского, уже «хрущевского периода»: «Мед. “сестра” это типичная низовая интеллигенция, сплошной массовый продукт – все они знают историю партии, но не знают истории своей страны, знают Суркова, но не знают Тютчева – словом, не просто дикари, а недочеловеки (выделено мной – К.К.). Сколько ни говори о будущем поколении, но это поколение будет оголтелым, обездушенным, тёмным» (56). Какая ненависть за незнание Тютчева! Слово «недочеловек» уже прозвучало в истории – за спиной Великая Отечественная война, это слово – синоним истребления. Символ ненависти к собственным согражданам, и даже не каким-нибудь «классовым врагам», а к рядовой интеллигенции, которая ближе других стоит к простому народу. Одновременно в дневнике детского писателя множество ласковых слов о Солженицыне и других диссидентах. Таков ход мысли либеральной интеллигенции 1960-х.
В Советском Союзе словно обосновались две цивилизации, не любящие и не понимающие друг друга, и суть не в экономических отношениях между ними. С.Кара-Мурза: «Дело в сокровенных переживаниях и угрызениях совести, которые редко и, как правило, странным образом вырываются наружу, вроде слез депутата-“кухарки”, которая выкрикивала что-то нечленораздельное в адрес А.Д. Сахарова, оскорбившего, по ее мнению, Армию; эти слезы и искреннее изумление Сахарова представляли собой драму столкновения двух цивилизаций, в политических интересах опошленную прессой» (57). Речь идет об одной из ярких картинок во время работы Съезда народных депутатов СССР, растиражированных СМИ, как пример дремучести и консерватизма большей части «прокоммунистических» депутатов.
Окончательный разлад мы можем видеть в публицистике эпохи перестройки. Сентябрь 1989 года. Академик ВАСХНИЛ, народный депутат СССР В. Тихонов рассуждает о необходимости реформ: «Я убежден, перемены объективно назрели и неизбежны. Но пока эта неизбежность превратится в реальность, нас ждет очень длительный, очень болезненный период… в том числе и голод… Но правительство должно быть более решительным и последовательным в реформах» (58). То есть академик и народный депутат настаивает на массовых страданиях – ради реализации идей, выношенных пресловутыми «шестидесятниками», включая голод. Снова голод?! Так чем же хуже сталинское правительство реформаторов в 1930-х годах? Разве что «решительнее».