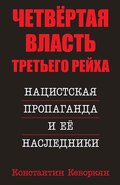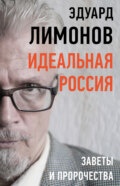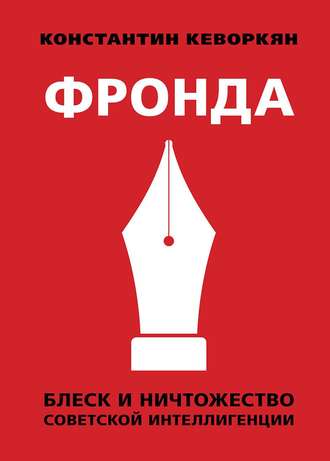
Константин Кеворкян
Фронда. Блеск и ничтожество советской интеллигенции
Итак, с середины 30-х годов партия – это воплощение революционного духа – подвергается настоящему разгрому, и верховная власть перетекает в государство, постепенно приобретавшее «традиционные» качества. Собственно, этот процесс мы и называем «термидором». 10 марта 1939 года Сталин уже публично мог заявить, что в «пролетарском государстве могут сохраниться некоторые функции старого государства». То есть государство не только не «отмирает», но и сохраняет определенную преемственность. Раньше о том и помыслить было невозможно.
В такой уникальной обстановке росло второе и третье поколение советской политической элиты. Зигзаги внутрипартийной борьбы, страх брать на себя ответственность, опасность быть раздавленным планомерно воспитывали поколение за поколением советских бюрократов. Модное слово «номенклатура» всего лишь характеризует высокопоставленную бюрократию, сначала все силы бросившую на то, что бы элементарно выжить в той кровавой бане, которую устроил для них Сталин. Взросла целая поросль совслужащих, привычно пригибающих голову, спасаясь от громов и молний, обрушивающихся с политического Олимпа, минимизирующих инициативу, которая, как известно, наказуема, защищающихся сверху и снизу валами бумажных инструкций и справок, будь-то даже справка о пребывании на великом балу у сатаны в качестве перевозочного средства. «Нет документа, нет и человека», – как говаривал Коровьев. К. Чуковский отмечал: «Интересно, что у большинства служащих, выполняющих все предписания партии и голосующих “за”, есть ясное понимание, что они служат неправде, – но – привыкли притворяться, мошенничать с совестью. Двурушники – привычные» (90).
Грозные вожди со временем ушли в небытие, и главную роль в государстве стали играть эти – бессловесные.
IX
После разгрома революционной партии, большевистского «термидора» и общегосударственной мобилизации на борьбу с гитлеровской Германией Сталин окончательно переносит управление страной в государственные структуры. Он переименовывает народные комиссариаты в министерства, как это было до Октябрьской революции.
Обосновывая новшество, вождь говорил на мартовском (1946 г.) Пленуме ЦК ВКП(б): «Народный комиссар или вообще комиссар – отражает период неустоявшегося строя, период гражданской войны, период революционной ломки и пр. Этот период прошел. Война показала, что наш общественный строй очень крепко сидит… Уместно перейти от названия – народный комиссар к названию министр. Это народ поймет хорошо, потому что комиссаров чертова гибель. Пугается народ. Бог его знает, кто выше, кругом комиссары, а тут министр, народ поймет. В этом отношении это целесообразно» (90).
Что касательно самой партии, то в 1946 году разработана и утверждена четкая номенклатура должностей ЦК ВКП(б), то есть список должностей, которые назначали и курировали партийные органы. Если верить официальной «Истории КПСС», таким образом «в работу с руководящими кадрами вносились плановость, систематическое изучение и проверка их деловых качеств, обеспечивалось создание резерва для выдвижения и строгий порядок в назначении и освобождении номенклатурных работников. Расширялась номенклатура должностей ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов» (91). По сути, речь шла о полном слиянии партии и государства под контролем сталинского аппарата и ликвидации остатков партийного самоуправления, особенно на местах. Любое номенклатурное назначение становилось делом государственной важности.
Впоследствии Хрущев с возмущением говорил о «второстепенной роли партии» в послевоенной властной иерархии, когда практически вся работа партийных комитетов сводилась к поддержке и проведению в жизнь распоряжений Совмина и министерств. Фактически Никита Сергеевич выступал за единоуправство партии, возврат к революционным 1920-м годам, но тогда его время еще не пришло.
Одним из проявлений последовательного огосударствления стала широко внедрявшая форменная одежда. Э. Рязанов: «Это был период, когда вся страна одевалась по желанию безумного генералиссимуса в форменную одежду. Вслед за армией, работниками КГБ и МВД мундиры начали носить железнодорожники, дипломаты, юристы, горняки, ученые» (92). В послевоенные годы мундиры начали носить чиновники более 20 ведомств и министерств. В их числе министерства финансов и заготовок, геологии и нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии, электростанций и связи, главные управления геодезии и картографии, гражданского воздушного флота, горного надзора, таможенной службы и многие другие. Государственная структура, созданная при Сталине, как бы окончательно утверждалась, оттесняя партию на второй план. Можно также предположить, что введение форменной одежды было также призвано скрыть нищету победоносного, но наполовину разрушенного государства.
Однако именно «бездушная» махина государства вызывала глухое, но нараставшее недовольство активной части населения – особенно тех людей, которые либо помнили сами, либо восприняли из книг, кинофильмов, рассказов старших представление о революционной атмосфере и бурлящей жизни партии в 1920-х и начале 1930-х годов. Отмена части обязательных мундиров в послесталинские годы представлял собой многозначительную акцию – фраза «сбросить ненавистный мундир» издавна является символом приобретения долгожданной личной свободы.
Кроме видимых глазу изменений в государственном устройстве, Сталин начал кропотливую работу по выстраиванию баланса сил между набравшей силу за время войны «ленинградской группировкой» и дуэтом Маленкова – Берии[41]. Сейчас мы подробно остановимся на этой внутрипартийной интриге, поскольку именно она породила на свет один из самых впечатляющих документов во взаимоотношениях сталинского государства и интеллигенции – постановление ЦК «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» и доклад члена Политбюро Жданова на эту тему. Показательный пример сложной партийной борьбы в последние годы жизни Сталина и ее влияния на пропагандистские кампании, многие из которых прямо или косвенно задевали интересы интеллигенции, а также положили начало полному разладу между ней и советским государством[42].
Делегировав Л. Берии огромные полномочия по созданию советской атомной бомбы, Сталин снял его с поста министра НКВД – всевластие других вождь допустить не мог. Кроме того, он наносит подготовленный удар по ближайшему компаньону Лаврентия Павловича – Маленкову. Для его отставки с должности секретаря ЦК было использовано т. н. «дело авиаторов», касающееся выпуска предприятиями наркомата авиационной промышленности СССР самолетов со значительными дефектами[43]. Но скорее тут следует говорить не о полной опале двух сталинских соратников, а об ограничении сферы влияния дуэта Берии – Маленкова.
Разумеется, Берия и Маленков всполошились. Их тревогу вызывало не только собственное пошатнувшееся положение, но и шаги Сталина по формированию нового центра власти, предпринятые в начале 1946 года. Речь идет о группе в составе Политбюро – выходцев из Ленинграда, сплоченно вошедшей в руководство страны. В ленинградской когорте числились А. Жданов (ставший, по сути, вторым секретарем ЦК), председатель Госплана СССР Н. Вознесенский, А. Кузнецов (ставший в 1946 г. секретарем ЦК и получивший в ЦК после временного падения Маленкова контроль над кадрами и органами безопасности), А. Косыгин (заместитель председателя Совета Министров СССР, избранный в 1946 г. кандидатом в члены Политбюро).
Их неформальный глава А. Жданов стал практически первым заместителем Сталина в высшем руководстве, да и вдобавок родственником – дочь вождя Светлана, которую мы здесь часто цитируем, вышла замуж за сына Жданова, Юрия. Наряду со Сталиным Андрей Александрович стал подписывать совместные постановления ЦК и Совета Министров. С ним согласовывались практически все решения, принимавшиеся Политбюро, Секретариатом и Оргбюро ЦК. В таком объеме полномочия имел лишь сам великий диктатор.
Маленков и Берия исподволь начали готовить контрнаступление. Вождю на глаза попадались материалы, из которых следовало, что «ленинградцы» лоббируют создание особой коммунистической партии РСФСР и даже провозглашение Ленинграда столицей России. Жданов постоянно был вынужден оправдываться и быть святее папы римского, в смысле «коммунистичней» самого вождя. Верноподданность, в частности, проявлялась и в топтании «своей» ленинградской интеллигенции, тех же А. Ахматовой и М. Зощенко, на которых в полной мере обрушились удары после постановления «О журналах “Звезда” и “Ленинград”».
Не являлась грязная партийная цидулька признаком борьбы тоталитаризма и писателей – плевать к тому времени деспотия на них хотела, но роль «красной тряпки», которой можно было раздраконить вождя, они сыграли. Важны были не личности, а то, что они из Ленинграда, вотчины главного конкурента.
После внезапной смерти А. Жданова нарушился хрупкий баланс власти. По спешно инспирированному «Ленинградскому делу» почти все люди покойного фаворита и, соответственно, соперники Г. Маленкова и Л. Берии, были осуждены и расстреляны. Косвенно это задело и А. Микояна: один из его сыновей женился на дочери А. Кузнецова, что опять-таки Маленкова и Берию полностью устраивало. Еще ранее сталинского доверия был лишен и В. Молотов, который допустил, по мнению вождя, несколько серьезных политических ошибок.
Но нечистая пара перестаралась – Сталин лишил своего доверия всю «четверку» ближайших к нему партийных вождей – Молотова, Маленкова, Берию и Микояна. Над высшим руководством страны нависла прямая угроза физической расправы. К. Симонов, присутствовавший на ХIХ съезде партии, последнем съезде при жизни И. Сталина, на котором он разнес в прах Молотова и Микояна, детально описал свои впечатления: «Лица Молотова и Микояна были белыми и мертвыми. Такими же белыми и мертвыми эти лица остались тогда, когда Сталин кончил, вернулся, сел за стол, а они спустились один за одним на трибуну и пытались объяснить Сталину свои действия и поступки… Странное чувство, запомнившееся мне тогда: они выступали, а мне казалось, что это не люди…, а белые маски… какие- то совершенно непохожие, уже неживые» (93). Ужас, который наводил диктатор на своих соратников, немало способствовал консолидации их действий в борьбе с Берией после смерти Сталина. Никто больше не хотел повторения массовых репрессий, да и выборочных тоже.
Версия о том, что уход Сталина в мир иной мог быть ускорен его ближайшими соратниками, напуганными возможными репрессиями против них, всегда была популярна – и в народе, и среди элиты. Хотя хорошо информированный генерал госбезопасности П. Судоплатов утверждал, что все сплетни о том, что Сталина убили люди Берии, голословны: «Без ведома Игнатьева и Маленкова получить выход на Сталина никто из сталинского окружения не мог. Это был старый, больной человек с прогрессирующей паранойей, но до своего последнего дня он оставался всесильным правителем» (94). Но со смертью Сталина система сама собой пошатнулась сверху донизу так, словно она удерживалась им одним и теперь неминуемо должна распасться. Ф. Кормер: «Интеллигенция ликовала. Начиналась оттепель. Снова, в который раз, забыв, кто она и где она, интеллигенция верила, что за оттепелью недалеко уже весна и лето. Она снова не захотела трезво оценить ситуацию, приготовить себя к долгой и трудной борьбе, снова рассчитывая, что все произойдет само собой. Скорее всего, правда, она и не могла бы бороться. За тридцать с лишним лет она отвыкла работать, поглупела, была больше стадом, чем единством… Неудивительно, что в удел ей достались опять сначала надежды, а потом палки» (95).
Х
«Оттепель» является ключевым понятием в советской мифологии, она прямая предшественница перестройки, сотворенной руками шестидесятников. П. Судоплатов: «На следующий день после похорон (Сталина – К.К.) я понял, что началась другая эпоха. Секретарь Берия позвонил мне в шесть вечера и сообщил, что новый Хозяин покинул кабинет и приказал не ждать его возвращения. С этого момента я мог уходить с работы ежедневно в шесть вечера в отличие от тех лет, когда приходилось работать до двух или трех утра, пока Сталин сидел за рабочим столом в Кремле или у себя на даче» (96). События развивались стремительно – прекращение «дела врачей», миролюбивые заявления нового руководства на международной арене и, наконец, массовая амнистия 1953 года, которая сыграла роль пускового механизма неудержимого распада ГУЛАГа, а заодно открыла канал массированного переноса специфически уголовных и заведомо конфликтных практик в «большой социум».
По той амнистии из лагерей и колоний было освобождено 1201738 человек, что составило 53,8 процента общей численности заключенных на 1 апреля 1953 года. Как следствие, ликвидировано 104 лагеря и 1567 колоний и лагерных подразделений. К тому времени можно было совершенно определенно констатировать исчерпание сталинского «потенциала покорности».
По мнению некоторых исследователей, восстания заключенных в Горном лагере в Норильске, в Речном лагере в Воркуте, в Степлаге, Унжлаге, Вятлаге, Карлаге и на других «островах Архипелага ГУЛАГ» привели большинство Президиума ЦК к пониманию того, что «прежними методами оно вряд ли сможет удержать страну в повиновении и сохранить режим в условиях тяжелого материального положения населения, низкого уровня жизни, острых продовольственного и жилищного кризисов» (97). Власть столкнулась с предельным выражением общего кризиса сталинской системы и, не видя альтернативных решений, склонилась к паллиативу – «оттепели».
Проблемы возникали не только в ГУЛАГе. Вопреки сложившемуся мнению отнюдь не он являлся движущей силой сталинской экономики – только несколько процентов ВВП приходилось на подневольный труд. В целом вся система испытывала весьма серьезные трудности, особенно наглядные в сравнении с достижениями главного геополитического соперника, США. Так в 1953 году на душу населения в СССР приходилось зерна почти в 2 раза, а мяса даже в 3 раза меньше, чем в США. По обеспечению посевных площадей тракторами США в 1953 году в 6 раз превосходили Советский Союз (и это при том, что 1953 году количество работников в сельском хозяйстве СССР было почти в два раза меньше, чем в 1928 году). На огромных площадях невозможно было увеличить производительность труда без кардинального роста технической оснащенности. Однако отставание в индустрии от США было еще более резким: по выплавке стали – в 4, по добычи нефти – в 8 раз.
Война сбила тот настрой, который определял вертикальный взлет экономики СССР в довоенные годы. При этом огромные средства и усилия уходили на то, что бы создать военный паритет с США, поскольку те не оставляли надежд получить окончательное превосходство над Советским Союзом. Да плюс огромные людские потери – не будем забывать, что со дня окончания самой разрушительной в истории человечества Второй мировой войны прошло всего семь лет.
Низкий уровень жизни увеличивал разочарование людей в социалистическом строе, а хронический дефицит рождал панические настроения. К. Чуковский дает живое описание ажиотажа на фоне слухов о грядущей денежной реформе в 1953 году: «Хотел получить пенсию и не мог: на Телеграфе тысяч пять народу в очередях к сберкассам. Закупают все – ковры, хомуты, горшки. В магазине роялей: “Что за черт, не дают трех роялей в одни руки!” Все серебро исчезло (твердая валюта!). Ни в метро, ни в трамваях, ни в магазинах не дают сдачи. Вообще столица охвачена безумием – как перед концом света. В “Националь” нельзя пробиться: толпы народу захватили столики – чтоб на свои обреченные к гибели деньги в последний раз напиться и наесться… Все магазины уже опустели совсем. Видели человека, закупившего штук восемь ночных горшков. Люди покупают велосипеды, даже не свинченные: колесо отдельно, руль отдельно. Ни о чем другом не говорят… Хорошо же верит народ своему правительству, если так сильно боится подвоха!» (98)
Государственный аппарат, интересы которого после смерти Сталина как бы воплощал Г. Маленков, заговорил о повышении уровня жизни населения с помощью развития производства товаров группы «Б», продукции легкой промышленности. Г. Маленков, 8 августа 1953 на заседании Верховного совета СССР: «Теперь на базе достигнутых успехов в развитии тяжелой промышленности у нас есть все условия для того, чтобы организовать крутой подъем производства предметов народного потребления». Дискуссии шли весь период «междуцарствия». В конце концов, ратующий за повышение роли партии Первый секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев 25 января 1955 на пленуме ЦК публично причислил Г. Маленкова к «горе-теоретикам», которые «пытаются доказать, что на каком-то этапе социалистического строительства развитие тяжелой промышленности якобы перестает быть главной задачей и что легкая промышленность может и должна опережать все другие отрасли… Это отрыжка правого уклона» (99). И в его словах тоже имелась своя логика: развитие тяжелой промышленности напрямую связано с оборонными нуждами страны, а также механизацией сельского хозяйства, в которой нуждалась страна. Более необходимым был признан хрущевский путь развития промышленности и через две недели Маленкова сняли и заменили Булганиным.
Поначалу Хрущеву достались ягодки из сталинских засевов. Технологический фундамент страны был заложен еще до 1953 года – в ходе индустриализации и по факту послевоенного восстановления народного хозяйства. И то, что воздвигнуто на этом прочном фундаменте, воистину грандиозно: 27 июня 1954 года – пуск первой в истории мира АЭС; 4 октября 1957 – запуск первого в мире спутника и спуск на воду первого в мире атомного ледокола, 1 октября 1959 года первое прилунение межпланетной станции, 12 апреля 1961 года – первый человек в космосе. С 1954 по 1964 производство электроэнергии увеличилось почти в 5 раз, добыча нефти – 3,5 раз, выплавка стали – в 2 раза, производства цемента – в 3,2 раза и т. п. (100)
Но, как ни парадоксально, эти великолепные достижения мало отражались на уровне жизни рядового гражданина. Более того, при Хрущеве производство зерна на основных (не целинных землях) упало (в среднем) с 80,9 до 73,1 млн. тонн, а это, извините, вопрос хлеба насущного! И это несмотря на весьма значительное увеличение поставок селу техники и удобрений. Здесь мы видим первопричины хрущевского краха – и никакая «оттепель» ему не помогла. К. Чуковский: «1 июля. (1962) Отовсюду мрачнейшие сведения об экономическом положении страны: 40 лет кричать, что страна идет к счастью – даже к блаженству – и привести ее к голоду; утверждать, что вступаешь в соревнование с капиталистич. странами, и провалиться на первом же туре – да так, что приходится прекратить всякое соревнование…» (101)
Пожалуй, наиболее важным и ощутимым достижением хрущевского десятилетия для рядовых граждан можно считать грандиозную строительную программу, которая помогла миллионам семей обрести отдельное жилье. Но прочее – новые гонения на церковь, ликвидация подсобных хозяйств и, наконец, серьезные перебои с поставками продуктов питания после кукурузной кампании – рождало народное озлобление. Другое дело, интеллигенция: «оттепель», относительно либеральная культурная политика конца 1950-х – начала 1960-х годов, впервые приподнявшийся железный занавес, разоблачение культа личности Сталина. Все вышеперечисленное до сих пор в образованных слоях населения считается основным достижением эпохи: «В душе моей остался светлый, даже святочный образ Никиты Сергеевича, он остался для меня царем-освободителем» (А. Вознесенский) (102). За десталинизацию Хрущеву прощается все. Но был ли мальчик?
Как известно, первым этапом десталинизации общества многие считают падение Л. Берии. Дескать, он собирался захватить власть и установить репрессивный режим, подобный сталинскому. Потому для дела освобождения от сталинизма именно бывший шеф НКВД-МВД представлял наиболее серьезную опасность. Теперь установлено, что Берия не вступал ни в какие заговоры с целью захвата власти и свержения коллективного руководства. Для этого у него не было решающей поддержки в партийно-государственном аппарате. Предпринятые им инициативы показывали, что он хотел лишь усилить свое влияние в решении вопросов как внутренней, так и внешней политики.
После краха Берии, от которого хотели избавиться все, в новой расстановке сил на первый план выдвинулся организатор его смещения – Хрущев, опиравшийся на мощную поддержку партийного аппарата, к которому вспять перетекала власть из государственных структур, то есть, от Маленкова. Так, в мае 1953-го в верхний эшелон власти входил всего лишь один собственно партийный деятель, то есть Хрущев, остальные девять членов президиума числились высокопоставленными государственными чиновниками. А уже перед свержением Хрущева из одиннадцати верховных правителей семеро являлись чистейшими партаппаратчиками – в частности, Л. Брежнев, Ф. Козлов, Н. Подгорный, М. Суслов и сам Хрущев. Партия вновь взяла на себя функции распорядителя и судьи общества. А кроме реанимированной партии, за Хрущевым стояла и его личная гвардия – консолидированная сила второй по значению республики Советского Союза – Украины, которой он руководил многие годы и откуда постоянно пополнял свой кадровый ресурс. После Сталина и вплоть до Андропова, с 1953 по 1982 годы, в течение 28 лет кадровая политика характеризовалась засильем в центре украинских представителей. Это к вопросу, насколько Украина якобы являлась колонией России.
Вчерашних сталинистов безжалостно чихвостили. Ю. Нагибин с содроганием описывает монолог одного из писателей-партийцев: «Вступайте, старик, в партию! Вы будете крепче чувствовать себя на ногах, чувствовать локоть товарищей. У нас умная и горячая организация. Вот мы исключили Толю Сурова. Я ему говорю: подлец ты, мать твою так, что же ты наделал? Выйди, покайся перед товарищами от всего сердца, а не читай по бумажке, подонок ты несчастный! Так хорошо, по-человечески ему сказал, а он вышел и стал по бумажке шпарить. Ну, мы его единогласно вышвырнули. Вступайте, старик, не пожалеете! А как хорошо было с Леней Коробовым, он на коленях ползал, просил не исключать. Я сказал: ты преступник, Леня, но пусть кто другой, не я, первым кинет в тебя камень. Он рыдал. Оставили, ограничились строгачом с последним предупреждением… Вступайте, обязательно вступайте, старик!… Вот скоро Мишу Бубеннова будем отдавать под суд. Знаете Мишу? Сибирячок, талант, но преступник. Скоро мы его исключим и под суд, настоящий, уголовный, туда ему и дорога. Вступайте, старик, в партию…» (103)
Для справки: Анатолий Суров – дважды лауреат Сталинской премии, активист борьбы с «космополитами», Леонид Коробов, бывший военный корреспондент «Правды», автор книги о Сидоре Ковпаке; Михаил Бубеннов, лауреат Сталинской премии за роман «Белая береза», где автор в духе культа личности изобразил Сталина. После 1956 года эта книга критиковалась как пример так называемой «теории бесконфликтности». «Мы, кто видел все это и в результате страдал от этого, – описывает наступившее время генерал П. Судоплатов, – позже пришли к выводу, что сталинская партийная верхушка использовала “борьбу с космополитизмом”, а хрущевская – с “последствиями культа личности” – только для того, чтобы убрать с дороги своих противников и оппонентов» (104).
Основным смыслом разоблачения культа личности являлась идея, что сам-то строй безупречен, но отдельные товарищи извратили его суть. Непонимание закономерности происходивших явлений, желание приписать весь негатив злой воле нескольких человек (вроде Сталина, Ягоды, Ежова, Берии) на время помогло поддержать позитивный настрой в обществе, но не устраняло первопричины надвигавшегося кризиса советского строя. «Я считаю партию ответственной за все то, что приписывают сейчас одному лишь Сталину», – подразумевая пороки всей системы, позже писала дочь Сталина Светлана Аллилуева (105).
Идейно-психологический кризис, который пережило общество в результате половинчатых разоблачений Сталина, насторожил коммунистических правителей. Они поняли, что полное развенчание мифа будет означать и полную потерю легитимности режима, обесценение всех его реальных и мнимых достижений. «Переоценка» роли и значения Сталина началась слишком быстро. Массовое сознание не выдержало, и даже привыкшие «колебаться вместе с генеральной линией» партийные функционеры растерялись. События в Тбилиси стали сигналом для власти. Если идеологические устои режима смогли выдержать разоблачение сталинских преступлений, то легитимность нового лидера страны – Хрущева – явно оказалась под вопросом. «Хрущев начал борьбу с мертвым и вышел из нее побежденным», – заметил У. Черчилль.
Потеря сакрального смысла построения нового общества, утрата общих ориентиров, пусть и спущенных приказом сверху, создала возможность разночтения как событий сегодняшнего, так и вчерашнего дня. «Для преданных почитателей Вождя оскорбительным и невыносимым было не низвержение кумира, в этом еще можно было бы найти некое потустороннее величие, а простота и обыденность, с которыми оно совершилось. Сталин оказался простым смертным, но это означало, что теряла смысл вся мессианская проповедь мирового коммунизма. Жертвы становились бессмысленными, жестокость – неоправданной, жизнь – потраченной напрасно» (106). «Народный сталинизм» стал стихийным ответом людей на разрушение мифа, формой самопроизвольного поддержание в народных массах веры в строгого, но справедливого и победоносного царя. Это серьезно различалось с оценкой Сталина из уст интеллигенции, видевшей в нем, прежде всего, кровавого тирана.
Идеологическая машина переставала работать. Попытки Хрущева мобилизовать народ на «новые исторические свершения» – «строительство коммунизма за 20 лет» (а «программа строительства коммунизма» была принята одновременно с новой атакой Хрущева на Сталина в 1961 г.) были обычным обманом, который народ, «живущий повседневностью», многозначительно проигнорировал.